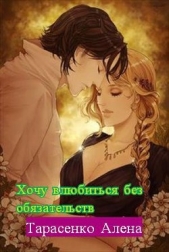Sub specie aeternitatis
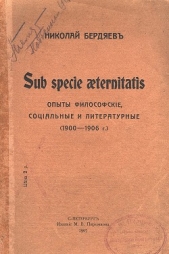
Sub specie aeternitatis читать книгу онлайн
Опыты философские, социальные и литературные. М.: Канон+; Реабилитация, 2002. 655 с.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Между тем как реальная общественная наука наших дней смиряется перед философским и религиозным учением о свободе, видит природу общества в психическом взаимодействии индивидуальностей и интимную сущность исторического процесса в свободном творчестве человечества. Поэтому наука отказывается от исторических предсказаний и тайну будущего отдает в ведение религиозной свободы.
В тесной связи с учением Леонтьева об органическом развитии стоит его теория национальных типов и национальной миссии России. Все нации Европы, все культуры Запада подошли к страшному пределу, вступили на путь органического разложения и смерти, «цветущая сложность» для них в прошлом, в эпохе Возрождения и т. п. Там, в Европе, все загубил уравнивающий и дезорганизующий прогресс демократии. В западной культуре XIX века Леонтьев уважает только пессимизм, только Шопенгауэра и Гартмана, которые честно восстали против иллюзий «прогресса», против эвдемонистических упований. Расцвет культуры, «цветущая сложность», возможен лишь для России, для славянства, объединенного не либерально-демократическими, разлагающими принципами, а византийскими, организующими. Таким образом на Россию возлагается великая миссия быть оплотом мирового охранения от страшной гибели, всеобщего разложения, смерти всех государственных организмов. Но миссия будет лишь тогда выполнена, если Россия создаст совершенно своеобразную культуру, отличную от западноевропейской. Основами для такой оригинальной культуры Леонтьев считал не великие свойства русского национального духа, а византийское самодержавие и византийское же православие. Вот уж поистине гора родила мышь! У Леонтьева была очень сложная и раздробленная душа, и между частями ее было так же мало связи, как и между частями его мировоззрения. «Цветущую сложность», разнообразие культуры, красоту, силу и индивидуальность Леонтьев любил как язычник, как эллин, а темные стихии его природы тянули к мрачному византийству, к монашескому аскетизму, к самодержавию и православию. Зачем Леонтьеву нужна цветущая культура, к чему красивая сложность и разнообразие, во имя чего этот культ сильных индивидуальностей, которые губят современный «индивидуализм»? Религия Леонтьева всего этого не оправдывает, она проповедует личное спасение и путем к нему считает идеал монашества, по существу своему враждебный культуре и этой языческой любви к красоте жизни. Леонтьев послушничествовал на Афоне и под конец жизни был монахом, спасался от ницшеанства, которое было в его крови независимо от Ницше. Это был трагический человек, раздвоенный до предельных крайностей, и в этом он нам близок и интересен.
Леонтьев не мог осмыслить для себя всемирной истории, вернее, она имела для него два призрачных смысла. То он понимал мировой процесс натуралистически, то мистически. Он поклонялся силе, красоте, героизму, индивидуальному цвету жизни, и, наряду с этим, смирялся перед монашеским христианством. Его пугал ужас конца, предела, и он хватался за византийскую гниль в порыве отчаяния, из надлома, из духа противоречия кому-то и чему-то... В чем же гарантия, что Россия выполнит свою миссию, создаст особенную культуру, не подвергнется европеизации, «либерально-эгалитарному» разложению? Оригинальное творчество требует презираемой Леонтьевым свободы, а этот несчастный человек дошел до того, что возложил надежду свою, надежду отчаяния, на хорошо организованную полицию, на физическое насилие, к которому питал какую-то извращенную страсть.
Что смысл прогресса, либерального и эгалитарного, можно понимать не эвдемонистически, что смысл этого можно видеть в метафизическом освобождении, трансцендентном в своих предельных перспективах, а не в мещанском благополучии и благоустройстве, об этом Леонтьев и не подозревал. Его реакционный пессимизм есть только обратная сторона эвдемонизма, прогрессивного оптимизма, с этой пошлой верой в окончательное торжество бестрагичного счастья и блага на земле. Но можно ведь и совсем выйти из этого круга, стать по ту сторону эвдемонистического оптимизма и пессимизма, выше, постигнуть мировой и исторический процесс в его мистических целях. И тогда нелепым покажется тот вывод, что нужно остановить прогресс, потому что счастья на земле все равно не будет и всякое благополучие пошло и низменно.
В своем натуралистическом рвении, в своем притворном и несоблазнительном реализме Леонтьев отрицает всякие ценности, всякую телеологию. Высшим критерием для него как будто бы является развитое разнообразие общественного организма, он дорожит индивидуальностью какого-то фиктивного целого, а не живой человеческой индивидуальностью. Это поклонение Левиафану не заключает в себе никакой мистики и есть самое грубое реалистическое суеверие, которое мы встречаем у всех позитивных государственников и позитивных сторонников органической теории общества. Что же было с мистикой, с христианством Леонтьева, пока он так неудачно притворялся реалистом и создавал себе кумира из государственного организма? Очень интересно разобраться в леонтьевском толковании христианства и его попытках связать религию Христа, всю Его мистику с реакционной человеконенавистнической политикой. Это захватывающая, огромная по своему значению тема, и с решением ее связана судьба христианства в будущей человеческой истории.
Для Леонтьева христианство не есть религия любви и радостной вести, а мрачная религия страха и насилия. Больше всего он дорожил в христианстве пессимистическими предсказаниями о будущем земли, о невозможности на ней Царства Божьего. Как это ни странно, но христианина Леонтьева притягивало более всего к себе учение о зле, о безбожном и антихристском начале, заключенное в религии Христа. И Леонтьева я решаюсь назвать сатанистом, надевшим на себя христианское обличив. Его религиозный пафос был направлен на апокалиптические предсказания об оскудении любви, о смерти мира и страшном суде. Его радовало это мрачное будущее и не привлекала другая, положительная сторона предсказаний: о воскресении, об окончательной победе Христа, о «новом небе и новой земле»'*. В раздвоенной и извращенной природе Леонтьева заложен был мрачный пафос зла, и насилием он дорожил больше всего на свете. Зловещая сторона апокалиптических предсказаний дает возможность истолковывать христианство как религию аристократическую, и это> радует Леонтьева: «Вечна она (Церковь) — в том смысле, что если 30000 или 300 человек, или всего три человека останутся верными Церкви ко дню гибели всего человечества на этой планете (или ко дню разрушения самого земного шара) — то эти 30000, эти 300, эти три человека будут одни правы и Господь будет с ними, а все остальные миллионы будут в заблуждении» [177]. И Леонтьев хотел, чтобы «всего трг» человека», и радовался не столько их спасению, сколько «гибели остальных миллионов». Эстет и русский предтеча Ницше восклицает: «Беру только пластическую сторону истории и даже на боль и страдания стараюсь смотреть только так, как на музыкальные красоты, без которых и картина истории была бы неполна и мертва» [178] . И этот же человек уже другим, византийски-православным голосом восклицает: «Идея христианского пессимизма, благодаря которой весь естественный и никогда, разумеется, неисправимый трагизм нашей земной жизни представляется и оправданным, и сносным... Страдания, утраты, разочарования, несправедливости должны быть: они даже полезны нам для покаяния нашего и для спасения нашей души за гробом» [179] . Древний язычник проповедовал красоту и любовь к жизни, а византиец — государственно-полицейское насилие, во власть которого он целиком отдавал универсальные судьбы человечества. Но этот грешный человек жаждал индивидуального спасения и прилепил сердце свое к аскетизму и монашеству, в котором видел главную суть религии Христа.
Особенно невзлюбил Леонтьев «сентиментальное» или «розовое» христианство, в котором обвинял двух величайших русских гениев: Л. Толстого и Достоевского7*. Даже Достоевский казался «розовым» его черной душе! Так ненавистно было ему все, что пахло «моральной» проповедью любви. Страх, страх, а не любовь — вот краеугольный камень! «Высшие плоды веры, -— например, постоянное, почти ежеминутное расположение любить ближнего, — или никому недоступны, или доступны очень немногим; одним —- по особого рода благодати прекрасной натуры, другим — вследствие многолетней молитвенной борьбы с дурными наклонностями- Страх же доступен всякому: и сильному, и слабому, — страх греха, страх наказания и здесь, и там, за могилой... И стыдиться страха Божьего просто смешно; кто допускает Бога, тот должен его бояться, ибо силы слишком несоизмеримы. Кто боится, тот смиряется; кто смиряется, тот ищет власти над собой, власти видимой, осязательной»... Леонтьев не любил Бога и кощунственно отрицал его благость. Бог был для него темным началом, и он со страхом, со скрежетом зубовным поклонялся ему как творцу зла в мире, благодарил его лишь за то, что может so имя его призывать к насилию, к истязанию всего живого. Его приводили в бешенство все попытки осуществить Царство Божие, царство любви на земле, «Любовь без смирения и страха перед положительным вероучением, горячая, искренняя, но в высшей степени своевольная, либо тихо и скрыто гордая, либо шумно тщеславная, исходит не прямо из учения Церкви; она пришла к нам не так давно с Запада; она есть самовольный плод антрополатрии, новой веры в земного человека и в земное человечество, — в идеальное, самостоятельное, автономическое достоинство лица и в высокое практическое назначение всего «человечества» здесь на земле» [180]. «Христос не обещал нам в будущем воцарения любви и правды на этой земле, нет! Он сказал, что «под конец оскудеет любовь»... Но мы лично должны творить дела любви, если хотим себе прощения и блаженства в загробной жизни, — вот и все» [181]. Таким образом, совершенно отрицается религиозный смысл всемирной истории. «Вера в божественность Распятого при Понтийском Пилате Назарянина, который учил, что на земле все неверно и неважно, все недолговечно, а действительность и вековечность настанут после гибели земли и всего живущего на ней, — вот та осязательно-мистическая точка опоры, на которой вращался и вращается до сих пор исполинский рычаг христианской проповеди. Не полное торжество любви и всеобщей правды на этой земле обещают нам Христос и его апостолы, а напротив того, нечто вроде кажущейся неудачи евангельской проповеди на земном шаре, ибо близость конца должна совпасть с последними попытками сделать всех хорошими христианами» [182]... Леонтьев очень дорожит тем, что «на земле все неверно и все неважно» й что под конец мало будет «хороших христиан»; ему это эстетически нравится. «Верно только одно, — точно, одно, одно только несомненно, — это то, что все здешнее должно погибнуть! И потому — на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений? На что эти младенчески-болезненные мечты и восторги? День — наш, век — наш!» [183] «Братство по возможности и гуманность действительно рекомендуются Св. Писанием Нового Завета, для загробного спасения личной души; но в Св. Писании нигде не сказано, что люди дойдут посредством этой гуманности до мира и благоденствия. Христос нам этого не обещал... Это неправда: Христос приказывает, или советует всем любить ближних во имя Бога, но, с другой стороны, пророчествует, что его многие не послушают» [184]. И Леонтьев не послушал, он послушал лишь пророчество о том, что заповедь любви не будет исполнена, и на пророчестве этом, а не на самой заповеди основал свою религию и политику. Он должен был бы признаться, что таинственное учение Христа о любви ему непонятно и противно. «Перед христианским учением добровольное унижение о Господе лучше и вернее для спасения души, чем эта гордая и невозможная претензия ежечасного незлобия и ежеминутной елейности. Многие праведники предпочитали удаление в пустыню деятельной любви; там они молились Богу сперва за свою душу, а потом за других людей; многие из них это делали потому, что очень правильно не надеялись на себя и находили, что покаяние и молитва, т. е страх и своего рода унижение вернее, чем претензия мирского незлобия и чем самоуверенность деятельной любви в многолюдном обществе. Даже в монашеских общежитиях опытные старцы не очень-то позволяют увлекаться деятельной и горячей любовью, а прежде всего учат послушанию, принижению, пассивному прощению обид» [185]...