Открытость бездне. Встречи с Достоевским
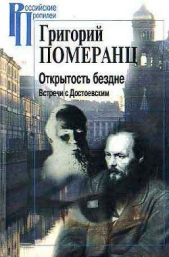
Открытость бездне. Встречи с Достоевским читать книгу онлайн
Творчество Достоевского постигается в свете его исповедания веры: «Если бы как-нибудь оказалось... что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины...» (вне любой философской и религиозной идеи, вне любого мировоззрения). Автор исследует, как этот внутренний свет пробивается сквозь «точки безумия» героя Достоевского, в колебаниях между «идеалом Мадонны» и «идеалом содомским», – и пытается понять внутренний строй единого ненаписанного романа («Жития великого грешника»), отражением которого были пять написанных великих романов, начиная с «Преступления и наказания». Полемические гиперболы Достоевского связываются со становлением его стиля. Прослеживается, как вспышки ксенофобии снимаются в порывах к всемирной отзывчивости, к планете без ненависти («Сон смешного человека»).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Здоровый Мышкин намечен, но здоровье его очень хрупко и быстро рушится, и если взять роман в целом, то Достоевский очень настойчиво подчеркивает неловкость, беспомощность своего героя, отсутствие правильного жеста (хотя в первых сценах все жесты правильные), неумение высказать любимую мысль, не исказив ее, и т. п. Эти черты постепенно становятся все резче. Мышкин после первой части не развивается, а разрушается, теряет равновесие, теряет душевные силы и, наконец, совершенно теряет разум.
Таким, каким он приехал из Швейцарии, Мышкин только бесконечно прозрачен для других и от этого бесконечно раним. Его чувство Бога – радость, а радость – от душевного здоровья. Болезнь – образ греха. Болезнь толкает просить прощения. А Мышкин, приехавший из Швейцарии, не просит прощения. Он просто видит дерево и счастлив. Он единственный здоровый среди толпы больных.
В романе Достоевского полно юродивых, юродствующих, уродов, уродцев – но Мышкин, появляясь перед читателем, только очень хрупок. То, что происходит в романе, как бы «Сон смешного человека» наизнанку. Во «Сне» один развратил всех, а здесь все не сумели развратить одного. Не сумели, но задушили своей мутью. Муть не остается в душе, она разливается вокруг и душит незащищенных. Почти каждый персонаж романа – соучастник этого убийства. Мы привыкли к обособленности и думаем, что убиваем только тех, кого ударили, а духовно сохраненных и соубитых не видим и не считаем. Те немногие, кто очистился, знают, от чего они очистились, и принимают свои меры, чтобы каждодневно снова очищаться. Старцы, например, только изредка выходят к людям. Все остальное время они вымаливают из себя захваченную и выплывающую муть и снова приходят с одним светом. А Мышкин не знает, на какую планету он попал. Ему кажется, что он вернулся на духовную родину, и он раскрывается каждому русскому человеку совершенно беззащитно. Так, как будто все они – ипостаси единого человека, как будто Русь на самом деле (а не только по Киреевскому) свята и соборна.
Поэтому история Мышкина – это история болезни. Беззащитный Мышкин корчится от вирусов, которыми его заразили, которые люди привыкли как-то переносить, а он не привык; с которыми люди сроднились, а он – не может сродниться. Есть буддийская сутра о праведнике Вималакирти, больном, потому что весь мир болен. Но Вималакирти принял облик больного [107], а Мышкин действительно всем своим человеческим существом болеет. И так оказывается, что апостол добра – идиот, юродивый.
Болезнь, юродство и нарастающее безумие так же необходимы в истории Мышкина, как крест в конце Евангелия. Сказано с креста о потере, больше ничего: «Господи, зачем Ты оставил меня?» Но что-то молча сказалось самим крестом. Если поверить Кальдерону, даже больше, чем всё, сказанное устами. Мне кажется, что «Поклонение Кресту» [108] – крайность, доходящая до разрыва с истиной. Но и убрать крест, думая о Христе, я не могу. Хотя совершенно понимаю первых христиан, для которых крест был просто виселица и которые в катакомбах рисовали рыб и ягнят. Я думаю, что в этих росписях незримо сознавался крест; только его было слишком больно созерцать, высказать, выговорить.
В болезни Мышкина, как и в распятии, есть что-то очень глубокое и неустранимое, относящееся не только к форме романа, но и к праформам самого бытия. «В страдании есть идея», есть, может быть, обнаружение Бога, страдающего вместе с миром, и не единожды на Голгофе, а каждый миг, в каждой твари. «В немощах действует Бог», – говорит ап. Павел. И там, где действует Бог, не может не быть немощи. Так же, как блаженства (немощи твари – и блаженства в Боге).
Есть адские муки; но есть и муки чистилища, и муки, прямо неотделимые от радости. Духовные муки и страхи – такие же разные, как и физические. В Евангелии говорится о роженице, забывающей муки, когда видит ребенка. Это тот же квадрильон Ивана Карамазова, забытый в первое мгновение рая. Те, кто не испытывал таких мучений, кто слишком берег себя или чья плоть была слишком крепка и не поддалась «здоровой» боли, кто не прошел своего квадрильона, поражены бесплодием и всеми болезнями бесплодной жизни.
Духовные муки дольше физических. Экхарт говорит о великом (и редком) счастье «умереть скоропостижно», то есть сразу умереть в ветхом и родиться в новом Адаме.
У большинства людей, вообще причастных процессу духовного рождения, он напоминает скорее линьку с многократным болезненным освобождением от каких-то лоскутьев истлевшей плоти.
С какими-то сдвигами, но без решающего преображения. Подобие родовых потуг здесь повторяется неоднократно. Трудно и больно душе разверзнуться, дать себя раздвинуть Неведомому, даже, может быть, разорвать себя (иногда кажется так). И оттого, что душа разверзается, ей больно. С другой стороны, есть болезни оттого, что душа не хочет разверзнуться, что побеждает ложный инстинкт самосохранения. Плоть должна быть способной срастаться после родов. Но если она вовсе не поддается разрыву, это тоже патология, – яйцо со слишком крепкой скорлупой, через которую цыпленок не может пробиться.
Есть страх встретиться с Богом и страх не встретиться с Ним. Боязно господина и хочется спрятаться за спины других слуг, раствориться в народе, в церкви; и хочется остаться с женихом наедине. «Страшно попасться в руки Бога живого», и страшно совсем не попасть в них. Встреча откладывается и откладывается до самого смертного часа (а тогда уже может быть поздно!). Но случится раньше времени – и не выдерживает человек, плоть слаба, обморок...
Начало премудрости – страх Божий, – говорит Ветхий Завет. Но какой страх? Их много. Страшно встретиться с бесконечным духом; и страшно остаться в тьме внешней.
Страшно оскорбить то, что любишь, страшно своего собственного нечистого прикосновения. Страшно приблизиться – и страшно поссориться (как в бездну упасть).
Любовь так тесно связана с болью, что без готовности терпеть боль и страх боли она совсем невозможна. Когда мне было 20 лет, я оказался на пороге большого чувства, но подавил его (испугался боли). Долго считал это своей победой, а потом – глупостью. Другая любовь прямо началась с боли, с чувства вины, перевернувшего все мое существо. Третья – с детского чувства нежности ребенка к матери. Я думаю, так примерно бывает и в Божьей любви. Она может начаться с боли, с удара (Павел, опрокинутый на пути в Дамаск), а может – с легкого, как пух одуванчика, прикосновения к сердцу... Но потом непременно будет и то, и другое, и радость, и боль. Это естественно, как в физических последствиях любви... Но бывают осложнения естественного цикла, грозящие не болью только, а болезнью и смертью. Животных здесь выручает инстинкт, людей – помощь и совет. У Мышкина не было ни помощи, ни совета. Его душа вынашивала Бога в одиночку. Она почти непременно должна была заболеть. Даже если бы нас не было вокруг. А тут еще мы со своей мутью...
Если бы Мышкин оставался один! Один – и с Богом в рассвете и в закате, в горах и в море... Он, может быть, понял бы до конца немой язык. Он понимал его. Но Мышкин был с нами. Я догадался, что это значит, пытаясь читать одну книгу, то привлекавшую глубокими, выстраданными мыслями, то обливающую потоками мелкой бабьей злобы.
После каждой порции чтения меня лихорадило, до сердцебиения и потери сна. Как будто бы переливали в меня кровь, и оказалась кровь другой группы, несовместимая.
Но ведь для Мышкина вся наша духовная атмосфера – что-то вроде этих мемуаров [109], вся эта земная мешанина идеала Мадонны с идеалом содомским, страдания и обиды.
В Швейцарии он знал, что взрослые – чужие для него. Жил с детьми и выздоровел (не благодаря детям, благодаря Богу; об этом потом. Но дети не мешали Богу действовать). А в России, мечтал он, в России другая планета, – и в его широко раскрывшуюся душу хлынули Настасья Филипповна, Рогожин, Ипполит, Бурдовский...


























