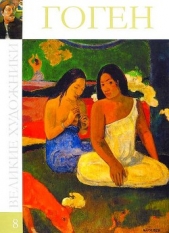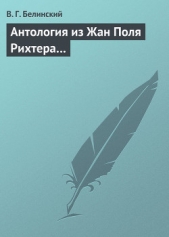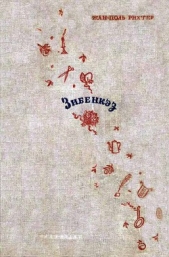Приготовительная школа эстетики
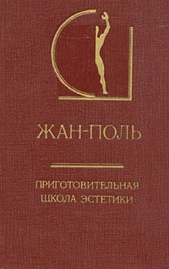
Приготовительная школа эстетики читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Часто замедленность — одна только видимость, создаваемая экспозицией. Если в первой главе романа, в экспозиции, перед читателем уже возникает видение города — в безоблачной дали, а к городу этому прямой путь ведет через четыре толстых тома (городские башни все время в поле зрения), — так поступал и поступает хорошо известный нам автор в романе «Титан», — то по дороге только и слышны жалобы и стоны — надеялись, как говорится, прибыть на место уже во второй главе и на том захлопнуть книгу. Счастливее и занимательнее сочинители, которые отправляются в свои книги — гулять и только вместе с читателем узнают, куда пришли и с чем остались!
Действие тогда плетется, когда повторяется, и только тогда застревает на месте, когда вместо него развивается другое, — а не тогда, когда событие, огромное на удалении, распадается на все более мелкие частицы вблизи, как день на секунды, и не тогда, когда борется с препятствиями и оттого стоит на месте; как в морали, намерение ценится выше, чем достигнутый успех. Но {2} тем не менее Гердерова нескончаемая жалоба {3}, горькая и почти комическая, на склонность его и других засыпать за чтением эпоса, — эта жалоба стоит того, чтобы над ней поразмыслить — и найти ей оправдание. Еще один довод можно присовокупить к известным Гердеровым. Эпическая поэма лишается участия со стороны читателя не из-за всех рождающихся вместе с нею чудес, — что чудо на земле, то естество на небе, — а из-за своей холодности и даже суровости к двум лейбницевским суждениям — суждению основания и суждению противоречия, равно как и к рассудку, дружбы с которым эпосу весьма надлежит искать, ради мотивировки целого Только один Гомер — это первое исключение среди поэтов и, наверное, последнее: чем бы он ни рисковал, все нет риска. Конечно, «Илиада» в этой двойной войне людей и богов друг за друга и друг против друга предает людей в руки богов, — а богов в руки отца богов — всемогущего; и, без сомнения. Юпитер — этот бог из машины, бог для людей, бог для богов — мог бы окончить войну в первом же стихе, пока поэт призывал Музу; но у Гомера боги — это только высшие люди, которые на низших воздействуют все теми же человеческими средствами — сновидениями, увещеваниями; Олимп — просто княжеская скамья {4}, земной мир — бюргерская; действующие существа, как на земле, различаются только по ступеням и рангам; далее: страсти и землю и небо раскалывают надвое, а в тех четырех осколках, которые получаются в результате, все машины скрываются за действиями; далее: как бюргерская скамья длинней и действенней княжеской, так и в «Илиаде», — люди сражаются беспрерывно, а боги — вспомогательное войско, тут люди больше боятся силы людей, больше полагаются на силу людей (этим прекрасно сглаживается элемент чудесного), нежели боятся всесильных богов и надеются на всесильных богов; далее: боги в греческих сказаниях — просто былые обитатели земли, актеры, уже сыгравшие свою роль на земном театре, поэтому вмешиваться им в историю героев — это далеко не «машинное» чудо, как и вмешательство любого только что родившегося гения подвигов и свершений — в протекающую теперь и уносящуюся в глубь веков всемирную историю {5}, и, наконец, благодаря герою Ахиллу, полубогу-получеловеку, эта поэма о богах и людях равно исполовинилась в некое человекобожество, и тогда прочно утвержденной почве и земле его было придано и движущее небо. Все же допустимо было бы выражать всевозможные эстетические сомнения в связи с тем, что на гомеровском небе землю ждет наступающая по собственному благоусмотрению неба помощь — Паллада, дарующая Диомеду победы над воинами и над Марсом, Аполлон, наполняющий рвы и разрушающий стены, даже сам Юпитер, который то своевольно запрещает, то своевластно разрешает богам вмешиваться в битвы людей. Но с другой стороны, над самим Юпитером царит судьба, решительная и решения выносящая, не считаясь с лейбницевским законом основания, — судьба эта есть ось земли и неба, вокруг которой вращаются люди и боги. Да и можно ли обойтись без таких неопосредованных опосредующих сил даже в самом маленьком рассказе? Честь и хвала Гомеру: при всем нашем неверии в его богов, этих сверхчеловеков минувшего, нашему наслаждению никак не мешает их небывалое всемогущество.
Совсем иначе воспринимаем мы странника, путешественника и морехода, красивого сладостного полугероя «Энеиды», — такое же основание назвать поэму именем Энея, как по имени Париса какую-нибудь «Парисиаду» или «Париаду». Вместе с вялостью и бледностью полу героя растет необходимость во вспомогательных богах, растет численность их и нестерпимость. Вергилий, получается, был прав, когда осудил свою героическую поэму на Геркулесову смерть в огне, — если бы только в результате одна смертная часть этого создания обратилась в пепел, как у Геркулеса, а другая, бессмертная, — эпизоды и описания, — осталась и была обожествлена.
Но еще больше потерянного рассудка у Мильтона, в «Потерянном рае». Борьба разбитых дьяволов со всемогущим, если только сам он не поддерживает и не увенчивает своих врагов, — это война, которую тени ведут против Солнца, Ничто — против Всебытия; так что по сравнению с этим пропадает обычная несуразица, вроде того, например, что происходит опасная для жизни канонада... между бессмертными, вроде того, что перед вратами Эдема выстраивается простодушный караул и швейцарская гвардия из ангелов, выставленных для того, чтобы дьяволы не просачивались по горизонтали, — они вместо этого прибывают сюда по вертикали. Но стоит лишь отнять у этого поэта его вспомогательные механизмы — помогающих ангелов, и вот это для него уже реальная помощь: он в своей поэме божествен благодаря людям, не ангелам.
Немецкий эпос пошел дальше других, как и немецкая философия, — тут рассудок был не просто забыт, но был просто уничтожен. Отношение, в котором находятся друг к другу бог-сын и бог-отец, собственно, два героя в одной поэме, всесилие их и власть над ангелами, дьяволами и людьми, невозможность ни на йоту отступить от предвечной воли — все это эпические «быть по сему...» Не будем говорить об очевидных противоречиях, — что гнев на людей пребывает лишь особо в боге-отце, но не в боге-сыне, — все это слишком часто повторяли уже первые читатели «Мессиады», обо всем этом слишком сожалели поначалу, всякого читателя смущал основной ход повествования, — но лишь до тех пор, пока не сменялся он эпизодами. Былая ортодоксия играет в этой поэме роль гомеровской судьбы, — играет хуже, ибо судьба, как опера, влечет за собой лишь непонятности чувственные и вещественные, а не метафизические; непостижимое ничего не может мотивировать, и его ничто не может мотивировать.
Все это ложится новым бременем на эпическую медлительность, — Гердер и все мы засыпаем, шлепая по глубокому песку. Ибо уж коль скоро героическая поэта столь широко пользуется свободами эпической галликанской церкви и, следовательно, вместо фактической мотивировки оставляет только ангельский привет и непорочное зачатие своих богов-сынов и божьих дел, то основная фабула, лишенная мотивировки, убирается восвояси и убирается в рамку (со вкусом сделанную, в рамку мотивированных эпизодов), — эпизоды, будучи настоящей живописью, оказываются шире самой наилучшей позолоченной рамы. Но это может дать в итоге длинноты, соседствующие с замедленностью, — к эпической фабуле, и без того необозримой и нескончаемой, добавляется еще нескончаемость всевозможных эпизодов.
Эпическую сонливость Гердер во многом относит за счет выдержанной монотонии стихотворного размера, но ведь один и тот же размер проходит через целые драмы и не прискучивает, — как и в самой жизни, монотонность в поэзии сначала вызывает удовольствие, потом скуку, потом привычку. Подлинная причина — подушка, на которой читатели нередко засыпают бок о бок со спящими Гомерами {6}, — это действие, если оно плетется или стоит на месте. Эпизодов скорее требует начало, чем середина и конец, и началу легче ужиться с ними, чем середине и концу, потому что интерес растет; и тем не менее вся XI песнь «Мессиады» — это описательный эпизод. В «Мессии» читательское farniente все нарастает и нарастает с приближением к концу, и лебединые песни ангелов очаровывают и околдовывают его, превращая в прекрасно сложенного Эндимиона. Только потому охладели и отпали от последних песней друзья первых {7}, несмотря на все великолепие стихосложения, хотя начало поэмы встретило читателей, которых нужно было воспитывать и се всем примирять, а конец — уже читателей воспитанных и во всем примиренных.