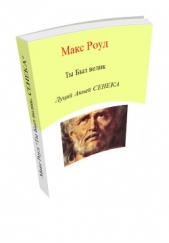Нравственные письма к Луцилию

Нравственные письма к Луцилию читать книгу онлайн
«Если хочешь взять власть над всем, отдай власть над собою разуму! Многим будешь ты повелевать, если разум будет повелевать тобою».
В книге представлены «Нравственные письма к Луцилию» — итог жизненных размышлений знаменитого древнеримского философа-стоика Сенеки, человека, который, своей смертью доказал верность идеалам своей жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Письмо LXXXVIII
Сенека приветствует Луцилия!
(1) Ты желаешь знать, что я думаю о свободных науках и искусствах. Ни одно из них я не уважаю, ни одно не считаю благом, если плод его деньги. Тогда они — продажные ремесла и хороши до тех пор, пока подготавливают ум, не удерживая его дольше. На них следует задержаться, лишь покуда душа не в силах заняться ничем важнее; они — наше ученье, а не наша работа. (2) Почему они названы свободными, ты видишь сам: потому что они достойны свободного человека. Впрочем, есть только одно подлинное свободное искусство — то, что дает свободу: мудрость, самое высокое, мужественное и благородное из них, а все прочие — пустяки, годные для детей. Неужто ты веришь, будто в них есть какое-то благо, хотя сам видишь, что нет людей ниже и порочнее их учителей? Все эти вещи нужно не все время учить, а однажды выучить. Некоторые полагали нужным разобраться, можно ли благодаря свободным искусствам и наукам стать человеком добра. Но они и не сулят этого, и даже не притворяются, будто знают такое! (3) Грамматик хлопочет только о нашем уменье говорить, а пожелай он пойти дальше, — займется историей или стихами, если раздвинет свои границы так, что шире некуда. Но пролагается ли дорога к добродетели объясненьем слогов, тщательностью в выборе слов, запоминаньем драм, правил стихосложенья, разновидностей строк? Это ли избавляет нас от боязни, искореняет алчность, обуздывает похоть? Перейдем к геометрии, к музыке: и в них ты не найдешь ничего такого, что наложило бы запрет на страх или алчность. А кому он неведом, для того все знания тщетны. (4) Нужно посмотреть, учат ли эти наставники добродетели; если не учат, то им нечего преподать; если учат, то они философы. Ты хочешь убедиться, что они на уроках и не думают учить добродетели? Взгляни, до чего ученье каждого не похоже на ученья остальных! А учи они одному и тому же, разнобоя бы не было. (5) Они бы тебя убедили даже в том, что Гомер был философом, если бы не опровергали этого своими же доводами. Ведь они превращают его то в стоика, одобряющего только добродетель и бегущего наслаждений, от честности не отступающего даже ради бессмертия; то в эпикурейца, восхваляющего покой в государстве, проводящего жизнь в пирах и песнях; то в перипатетика, устанавливающего три рода благ; то в академика, твердящего, что нет ничего достоверного[1]. Ясно, что ничего такого у него нет, раз есть все разом, — потому что учения эти между собою не совместимы. Но уступим им Гомера-философа. Он, видимо, стал мудрецом до того, как узнал о стихах; будем же и мы лучше учиться тому, что сделало Гомера мудрецом. (6) А спрашивать у меня, кто был старше — Гомер или Гесиод, такое же пустое дело, как разузнавать, почему Гекуба, хотя и была младше Елены[2], выглядела старой не по возрасту. И не пустое ли, по-твоему, дело — исследовать возраст Патрокла и Ахилла? (7) Будешь ли ты доискиваться, где блуждал Улисс, вместо того чтобы положить конец собственным заблуждениям? Нет времени слушать, носило ли его между Италией и Сицилией или за пределами известного нам мира. Да и не мог он на таком малом пространстве скитаться так долго. Душевные бури швыряют нас ежедневно, из-за собственной негодности мы терпим все Улиссовы беды. И красота прельщает наше зренье, и враг грозит; здесь — свирепые чудовища, лакомые до человеческой крови, там — коварный соблазн, привлекающий слух, и все разнообразье бед. Научи меня, как любить родину, жену, отца, как плыть к этой столь честной цели даже после кораблекрушенья. (8) Зачем ты доискиваешься, была ли Пенелопа вправду целомудренна[3], или обманула свой век? Подозревала ли она, что видит Улисса еще прежде, чем узнала наверное? Лучше объясни мне, что такое целомудрие, и какое в нем благо, и в чем оно заключено — в теле или в душе?
(9) Перейду к музыке. Ты учишь меня, как согласуются между собою высокие и низкие голоса, как возникает стройность, хотя струны издают разные звуки. Сделай лучше так, чтобы в душе моей было согласие и мои помыслы не расходились между собою! Ты показываешь мне, какие лады звучат жалобно; покажи лучше, как мне среди превратностей не проронить ни звука жалобы!
(10) Геометрия учит меня измерять мои владенья; пусть лучше объяснит, как мне измерить, сколько земли нужно человеку! Она учит меня считать, приспособив пальцы на службу скупости; пусть лучше объяснит, какое пустое дело эти подсчеты! Тот, чья казна утомляет счетоводов, не счастливее других; наоборот, как был бы несчастен владелец лишнего имущества, если бы его самого принудили сосчитать, сколько ему принадлежит! (11) Какая мне польза в умении разделить поле, если я не могу разделиться с братом? Какая мне польза до тонкости подсчитать в югере каждый фут и не упустить ни одного, ускользнувшего от межевой меры, если я только огорчусь, узнав, что сильный сосед отжилил у меня кусок поля? Меня учат, как не потерять ничего из моих владений, а я хочу научиться, как остаться веселым, утратив все. — (12) «Но меня выживают с отцовского, с дедовского поля!» — А до твоего деда чье это поле было? Можешь ты объяснить, какому оно принадлежало — пусть не человеку, а племени? Ты пришел сюда не хозяином, а поселенцем. На чьей земле ты поселенец? Если все будет с тобою благополучно, — у собственного наследника. Правоведы утверждают, что общественное достояние не присваивается за давностью владения; а то, что ты занял, то, что называешь своим, — общее достояние и принадлежит всему роду человеческому. (13) Замечательная наука! Ты умеешь измерить круг, привести к квадрату любую фигуру, какую видишь, называешь расстоянья между звездами, нет в мире ничего, что не поддалось бы твоим измереньям. Но если ты такой знаток, измерь человеческую душу! Скажи, велика она или ничтожна! Ты знаешь, какая из линий прямая; для чего тебе это, если в жизни ты не знаешь прямого пути?
(14) Перейду к той науке, которая похваляется знанием неба, которой известно,
Для чего нам это знание? Чтобы тревожиться, когда Сатурн и Марс окажутся в противостоянии или когда Меркурий зайдет вечером на виду у Сатурна? Лучше мне заучить, что они, где бы ни были, всегда благоприятны и не могут измениться. (15) Их ведет по непреложным путям извечный порядок судеб, они движутся по установленной череде смен и либо управляют всеми событиями, либо предвещают их исход. Но если в них причина всего, что бы ни случилось, какой толк знать то, чего нельзя изменить? А если они все предуказывают, — какая польза в предвиденье неизбежного? Знай, не знай, — все равно случится.
Но и так все в достаточной мере и сверх нее предусмотрено, чтобы я был застрахован от козней. — (17) «Разве не обманет меня наступающий час? Ведь обманывает все, что застигает врасплох ничего не ведающего». Что будет, я не ведаю, а что может быть, — знаю. И ничто не приведет меня в отчаянье, ибо, я жду всего, а если что меня минует, я считаю это за удачу. Наступающий час обманет меня, если пощадит; да и этим не обманет: ведь если я знаю, что все может случиться, то знаю также, что не все случится непременно. Потому я жду удачи, но готов и к бедам.
(18) Тебе придется смириться, если я тут сойду с предписанного тобою пути. Ведь ты не заставишь меня отнести к свободным искусствам то, чем занимаются живописцы или же ваятели, мраморщики и другие прислужники роскоши. И борцов, у которых вся наука — масло да пыль, я изгоняю из числа тех, кто занят свободными искусствами, — не то мне придется принять туда и составителей мазей, и поваров, и всех прочих, приспособивших свой ум к нашим наслажденьям. (19) Скажи мне, прошу, что общего со свободой имеют эти блюющие натощак толстяки с ожиревшим телом и отощавшей, одряхлевшей душою? И неужто мы будем считать свободным искусством все, в чем упражнялась, не присев, молодежь во времена наших предков: метанье копья, удары колом, верховая езда, владенье мечом? Они не учили детей тому, чему учатся, не двигаясь. Но ни то, ни другое не учит добродетели и не вскармливает ее. Что толку править конем и удерживать его бег уздою, покуда тебя самого несут необузданные страсти? Что толку побеждать в борьбе и в кулачном бою, когда тебя самого побеждает гнев?