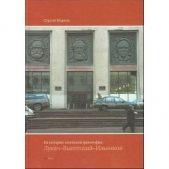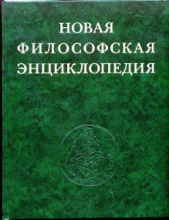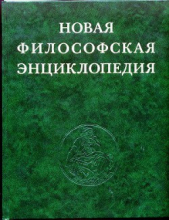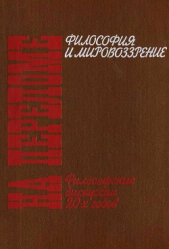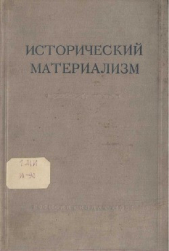Драма советской философии. (Книга — диалог)

Драма советской философии. (Книга — диалог) читать книгу онлайн
Известные философы и представители других гуманитарных наук ведут диалог о феномене «советская философия», ее идейной, духовной драме, обратившись к личности и творческому наследию одного из выдающихся ее создателей — Э.В.Ильенкова. Такой подход и контекст позволили по достоинству оценить сложную, противоречивую природу и историю советской философии, ее обретения и потери, преодолеть упрощенчество и излишнюю идеологизацию в трактовке интеллектуального процесса в условиях тоталитарного режима. Теоретический вклад Э.В.Ильенкова рассматривается в книге во всех его наиболее значимых аспектах и результатах (проблемы диалектической логики, идеального, личности, вопросы этики и эстетики).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Привет из центральной Германии!
Я снова на переднем крае, на маленьком «пятачке» за большой рекой… Точнее адрес указывать нельзя, сама понимаешь… Фриц отчаянно отбрыкивается от петли. Впервые за все наступление вижу я его самолеты…Даже своих «фау» не жалеет он для нас… это самолет — снаряд. Ну ничего, и они его теперь не спасут!
Да и, откровенно говоря, это вещь и не настолько страшная, как он думает… Туда, куда он хочет — никогда не попадет… Правда, воронку он делает такую, что спокойно влез бы дом средних размеров, а осколки летят аж на километры кругом… Но все равно ж ему будет крышка!..
Бью фрица и я. Как — ты знаешь. Увижу интересное что, открою таблицы логарифмов и конец ему.
Живу в общем спокойно. Блиндаж себе соорудил с накатом в 6–ть толстенных бревен — почти от любого снаряда спасет…Вот работы только много — писем писать время никак не выберешь… Так что не обижайся! И пиши сама. А то ведь я уж месяц как не получаю ни строчки…
20 апреля 45.
Вы уже, верно, слышали салют нашему фронту (я не в том, где был)… Я в самой гуще этого грандиозного, м.б., последнего на земле, сражения… Потому только сегодня и смог урвать минуту для письма.
Писать пока больше не могу, т. к., кажется, про нас еще не объявили официально. Но это сегодня, а когда ты письмо получишь, то увидишь где я был две недели назад… Так что, м.б., ты смотрела салют в честь Жукова, и не знала, что и мне тоже салютуют пушки Москвы…
Ну до свидания, теперь, должно быть недалекого… Авось те считанные дни не сыграют надо мной злой шутки…
25 апреля 45.
Пишу тебе из большого города, всемирно известного — если цензура не зачеркнет — Берлина. Сижу с своими ребятами на крыше, наблюдаю и командую огнем… Вдаль от меня уходит улица под красивым названием — «Unter den Linden» — это значит — «Под липами»…
В городе мне, как старому москвичу, воевать нравится больше, чем в траншеях посередь чистого поля…
Эх, рассказать мне тебе столько хочется! На днях водрузим знамя победы над этим треклятым городом, наверно — завтра к вечеру… А ты в Москве слушай салют нашему Жукову — хотя что я пишу — ведь когда ты получишь это письмо, этот салют уже будет позади… А как мне хотелось бы, чтобы сегодня, 25 апреля, ты знала, что я сижу на крыше на одной из берлинских улиц и завоевываю салют, что ты будешь слышать в далекой Москве завтра — послезавтра!..
Ну всего! Жди все же трех звонков!
6 мая 45. Берлин.
Сегодня у меня такое скверное настроение, что хоть вешаться впору; хоть и закончилась для меня война…
Произошла такая печальная история. Прислала мне Люб. Петровна письмо, и там была твоя фотография — увеличенная с той, где ты такая веселая. Сел я писать письмо в траншее, написал ей длиннющее письмище. А конверт ее письма только с твоей той фотографией, лежал рядом. Тут меня вызвали, вернулся я — нету конверта! А уж мы проехали километра три по улицам…
Всю радость мне эта история испортила. Во — первых — фотография — то единственная, к тому же насмотреться даже не успел, и столько ждал…
А во — вторых — попадет еще конверт с обратным адресом Л.П. и твоей фотокарточкой (больше там ничего не было) к какому — нибудь фронтовому Дон — Жуану, и начнет бедная Любовь Петровна получать ни с того, ни с сего, чувствительные письма…
Влез я в трактор, порвал со злости фотографии немецких киноактрис, которыми механики разукрасили всю кабину, и все таки легче не стало…
Вот такая то моя жизнь. А тут еще ты ни строчки не пишешь.
Хоть одно хорошо — Берлин взяли мы, вчера ездил на велосипеде по всему городу. Вернее по тому месту, где раньше был город… потому английские и наши бомбы дело свое сделали… Немногим больше осталось от него, чем от Сталинграда…
Теперь задач — попасть в Москву. Эх, поскорее бы…!
10 мая 45.
Третий раз принимаюсь писать тебе, и опять не знаю, удастся ли кончить. Два уже разорвал на клочки.
Тоскую по тебе сильно — сильно. Особенно теперь, когда кончился этот ад…
Настроение такое, что ни к чему не лежат руки, сорвался бы, плюнул бы на все, и бегом бы бежал до Москвы, из этого уже опостылевшего Берлина.
Ночью долго не могу заснуть, все представляю себе, как ворвусь я в парадное на Кузнецком мосту, как встретишь меня ты… Лежу на траве среди деревьев, и мне кажется, что ты сидишь рядом и молча ласково улыбаешься.
И хожу злой на все, чувствую себя так, как верно чувствует себя зверь, попавший в клетку…
А ты письмами меня не балуешь. Ну неужто ж тебе трудно раз хотя бы в три — четыре дня черкнуть?!
P.S. Приехал ли Сёмин в Москву? И видели ли меня в кино?
13 мая 1945 Берлин.
Два дня назад получил твое письмо с исключительной оказией — отцом, а сегодня — за 27 апреля.
Из писем этих с превеликим огорчением узнал, что ты почему — то не получала моих писем, а знала обо мне только из писем моих домой. Очень огорчило это меня. Я ведь писал тебе даже чаще, чем домой, а не только что реже…
Правда многие письма тебе так и не отправил… Напишешь, прочтешь, и призадумаешься — пройдет ли оно через цензуру?… Письма к тебе я всегда ведь садился писать, когда появлялась необходимость поделиться с кем — то близким чем — то волнующим и важным, а это часто, да и пожалуй чаще всего, шло вразрез с интересами цензуры…
Так что черт его знает, м.б., те, что я отправил, попали вместо тебя, да в окр…
Писал я тебе и из Данцига, и из — под Берлина, и из Берлина…
Ты пишешь, Иринка, что чуть недовольна тем, что я описываю тебе то, что ты можешь прочесть и в газетах, а о себе совсем мало…
Так в этих боях, которые по грандиозности своей не имеют себе подобных, как — то все личное, маленькое, действительно — таки подавлялось фантастическим видением непостижимо огромной катастрофы, какого — то феерического величия событий, так что я уже сейчас не могу толком рассказать о себе, как о личности в этих событиях… Это действительно так…
Вот сидим с отцом сейчас, и ему интересно именно это тоже…А я вместо того, описываю ему картину прорыва обороны на Одере, или крушения Берлина. Эти картины были настолько потрясающими, что вспомнить свою роль, роль всего — навсего человека — кажется и смешным и глуповатым…
Вот представь себе…
Мы сидим в траншее седьмые сутки, под непрерывным обстрелом. Все надоело страшно. Развлекаешься иногда ночью тем что смотришь на горизонт, где должен быть Берлин. И иногда видишь тонкие слабые лучи прожекторов, какие — то колоссальные вспышки… Иногда «мессершмидты» приведут и бросят пять — шесть самолетов — снарядов. Огрызаются во тьме пушки… А земля, вся до последнего кусочка изрытая и истерзанная, пуста… И охватывает чувство, которое изредка испытывал я и раньше, чувство ничтожности и хрупкости своего существа перед каким — то непонятным, таящим свою силу, всю огромность которого и представить как — то жутко, существом. Это иногда приходилось мне раньше испытывать во сне…
Это чувство, конечно, охватывало в обороне лишь минутами, даже мгновениями, чувство подсознательное, когда находишься один, когда не занят тем, что готовишь и сам все то, что должно произойти со дня на день, когда не рассматриваешь все это, как человек, которому весь механизм этого существа, известен до последних винтиков…
Но вот в 3 часа утра 16 апреля, когда чувствовалось, что все уже готово, нас разбудили, и вполголоса зачитали обращение маршала Жукова и приказ. — «На вас выпала честь разгромить войска противника на ближних подступах к столице фаш. Герм. — Берлину и в короткий срок закончить войну!..» И вот все, что таилось во тьме и в земле, вдруг развернулось и ожило в 5–00 утра 16–го апреля…
Был густой туман. Земли врага не видно. Но все траншеи заполнены артиллеристами со стереотрубами. Все поглядывают на часы, стрелки которых идут очень медленно… И вот когда стрелка стала на место, вся, казалось, вселенная, вдруг наполнилась багрово — красным светом, туман весь окрасился будто краской, и через несколько секунд в уши ударил обвалоподобный грохот, в котором отдельных выстрелов разобрать было нельзя… Ты слышала салют из 1000 орудий? Ну а здесь их было, чтобы не соврать, многие и многие тысячи…