Открытость бездне. Встречи с Достоевским
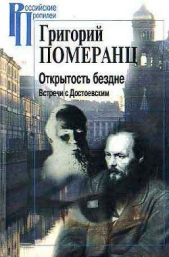
Открытость бездне. Встречи с Достоевским читать книгу онлайн
Творчество Достоевского постигается в свете его исповедания веры: «Если бы как-нибудь оказалось... что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины...» (вне любой философской и религиозной идеи, вне любого мировоззрения). Автор исследует, как этот внутренний свет пробивается сквозь «точки безумия» героя Достоевского, в колебаниях между «идеалом Мадонны» и «идеалом содомским», – и пытается понять внутренний строй единого ненаписанного романа («Жития великого грешника»), отражением которого были пять написанных великих романов, начиная с «Преступления и наказания». Полемические гиперболы Достоевского связываются со становлением его стиля. Прослеживается, как вспышки ксенофобии снимаются в порывах к всемирной отзывчивости, к планете без ненависти («Сон смешного человека»).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Возвращение в мир детства – один из путей возвращения к своему подлинному «я», заново открытый романтиками, – наряду с бегством в природу, в мистическое созерцание, в обрядовую религию, в народ, в прошлое, в экзотическую даль, в игру воображения, граничащую с бредом и сном, и т. п. Романтизм как течение давно отошел в прошлое, это хорошо известно; но так же хорошо известно, что романтическое живо и поныне; кроме того, есть неоромантизм, экономический романтизм и т. п., а прилагательное «романтический» одно и то же – от любого существительного, и в прилагательном то, что мы пытаемся разделить, снова сливается во что-то одно.
Надо признать, что слово «романтизм» очень переменчиво по своему смыслу и в разных противопоставлениях означает разные вещи. Например, в отношении к прогрессу Лев Толстой – романтик; в эстетике – скорее противник романтизма, хотя и не во всем. Я склонен подчеркнуть в романтизме поиски чуда и тайны, но это не значит, что в каждой моей фразе романтизм означает это и только это. Слово, как говорил Мандельштам, Психея, и каждое новое предложение – это новое воплощение, смысл которого не задан заранее словарем. Это первая оговорка, которую мне хочется сделать, чтобы избежать возможных недоразумений. Сразу же изложу и вторую.
Крупнейшие писатели не вмещаются в рамки направлений, не следуют никаким литературным манифестам. Романтики оказывают честь Шекспиру, признавая его романтиком; реалисты называют его реалистом. Я думаю, что и Шекспир, и Гёте, и Достоевский – не реалисты и не романтики. Хотя можно рассматривать их как реалистов, романтиков и еще в нескольких других ракурсах. Тут не сочетание романтизма с реализмом, как иногда говорят, а выход за их рамки. Искусство не создается из кирпичиков эстетических теорий; теории иногда необходимы писателю (главным образом для спора с другими писателями); но не в споре рождается глубинная поэтическая истина. Возможна поэзия без направления и направление без поэзии.
Валерий Брюсов не пригласил Марину Цветаеву на вечер поэтов всех направлений, потому что Цветаева ни к какому направлению не принадлежала; однако она осталась в литературе, а Брюсов из живой литературы постепенно выпадает, отходит в историю литературы. История искусства – это не история направлений. Скорее это история того, как искусство пробивается сквозь направления, сквозь рассудочные схемы.
Однако в связи с темой главы хочется подчеркнуть связи Достоевского с определенным направлением, а именно с романтизмом, с романтическими поисками выхода из мира трезвого расчета, выгоды, «реализма» (как это слово понимал Митя Карамазов). Чем более «реалистична» культура (опять-таки в Митином понимании), тем больше «дитё плачет», тем сильнее тяга к романтическому. Каждый шаг рационализации культуры вызывает новое противотечение, новую волну любви к средним векам, к народности, к примитиву, к детской наивности и т. п. Достоевский не начинает с нуля, он продолжает, во-первых, христианское открытие ребенка, то есть пытается понять, что значит «будьте как дети»; а во-вторых, продолжает романтическое открытие ребенка как поэтического антипода антипоэтического рассудка. В некоторых случаях (например, в «Неточке» и «Маленьком герое») общеромантическое и заново открытое детское так переплетаются, что их невозможно отделить; Нелли в «Униженных» – это и общеевропейский романтический персонаж, русская Миньона, и первый законченный образ ребенка собственно Достоевского с неизгладимыми чертами его пера, которое ни с каким другим не спутаешь.
Победа реализма над романтизмом, казавшаяся Белинскому однозначной и окончательной, не была ни тем, ни другим. Скорее можно говорить о попытке перенести романтическое из пробирки сказки в организм романа. Реалистический роман только внешне, официально поселяется в конторе мистера Домби. На самом деле он и остается в конторе, и бежит из нее, находит в самой конторе щели, где прорастают семена романтических цветов. Каждый великий реалистический роман – это решение квадратуры круга. Каждый роман – это особое неповторимое открытие: в каком ракурсе, в каком свете описывать непоэтичные предметы, чтобы целое вышло поэтичным? Или, другими словами, чтобы мир, разъятый рассудком, снова стал живым и целым? Чтобы привычное стало чудесным, странным?
Это не только тенденция Блока, символизма, а всякого искусства. Реалистическое искусство выражает эту же тенденцию, только сдержанно, тактично, почти незаметно. Каждый великий реалист – по-своему романтик.
Писатели, которых мы относим к классическому реализму, не отбрасывают, а продолжают романтические традиции и выстраивают свое внутреннее пространство поэзии и правды в мире, где, казалось, ни для подлинной правды, ни для поэзии не осталось никакого места. Классический реализм может рассматриваться как завершение романтизма, как «истинный романтизм». Нельзя считать недоразумением, ошибкой во вкусе мещанина во дворянстве, что Пушкин, Бальзак и Стендаль не знали, что они реалисты. Что термин этот придуман только Шанфлери и Дюранти; что Достоевский, посаженный в крепость, написал там рассказ «Маленький герой» с апофеозом романтизма, а впоследствии принял престижный термин «реализм» очень своеобразно и с оговорками.
Реализм, доведенный до фантастического, – это что-то крайне проблематичное, перекликающееся и с реализмом схоластики XIII века, и с призывом «от реального к реальнейшему». А если обратиться к употреблению слова «реализм» героями Достоевского, то это всегда власть вещей, власть антипоэтическая, враждебная идеалу. Приведу, кроме Митиных выражений, еще одну фразу, из «Подростка»: «Я был слишком широк, чтобы не понять или не допустить реализма – не марая, впрочем, идеала». Таким образом, реализм – это нечто, способное замарать идеал. В терминах Митеньки он ближе к Содому, чем к Мадонне. Достоевский времен своих великих романов широк и полностью допускает реализм, то есть власть денег, власть плотоядных порывов, власть Содома; но романтизм прорывается в мечтаниях его героев, даже совершенно падших. Вот, например, пьяный Тришатов вспоминает свое детство, свое детское впечатление о «Лавке древностей» Диккенса: «Помните вы там одно место в конце, когда они – сумасшедший этот старик и эта прелестная тринадцатилетняя девочка, внучка его, после фантастического их бегства и странствий, приютились наконец где-то на краю Англии, близ какого-то готического средневекового собора... И вот раз закатывается солнце, и этот ребенок на паперти собора, вся облитая последними лучами, стоит и смотрит на закат с тихим задумчивым созерцанием в детской душе, удивленной душе, как будто перед какой-то загадкой, потому что и то, и другое, ведь это загадка – солнце, как мысль Божия, а собор, как мысль человеческая... не правда ли? Ох, я не умею это выразить, но только Бог такие первые мысли от детей любит...»
Мне кажется, что Диккенс прочитан здесь Тришатовым (и Достоевским) совершенно романтическими глазами, прочитан так, что романтическое и религиозное, романтическое и поэтическое, романтическое и детское временами сливаются. Мы это заметим и дальше.
В творчестве Достоевского самых последних лет можно найти ряд элементов романтической поэтики: и выход в поэтическую даль истории («Легенда о великом инквизиторе») [86], и в фантастику, разворачивающую свой сюжет вне земных условий пространства и времени («Сон смешного человека»), и фрагменты подлинных миологем, органически вошедшие в структуру романа и образующие в нем некий чуть намеченный, но существенный глубинный слой [87]. Запутавшийся эвклидовкий разум противопоставляется сознанию народному (Соня, Хромоножка), церковному (Тихон, Зосима), экстатическому (Мышкин), переживанию красоты природы (Мышкин, Хромоножка, Карамазовы), наконец – детскому сознанию (Мышкин и Алеша, чужие среди взрослых, находят понимание у детей).


























