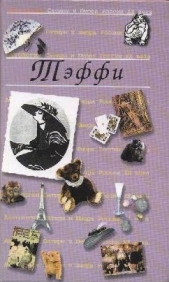Homo amphibolos. Человек двусмысленный Археология сознания
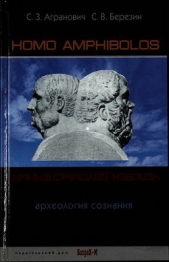
Homo amphibolos. Человек двусмысленный Археология сознания читать книгу онлайн
Эта книга названа «Homo amphibolos» — человек двусмысленный. Исследуя генетическую природу психологических феноменов человеческого сознания и кардинальных категорий культуры, авторы выстраивают принципиально новую гипотезу, объясняющую происхождение человека и архаические истоки его сознания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Недаром в своем глубоком и интересном исследовании феномена юродства А.М. Панченко обращает особое внимание на фрагмент жития Василия Блаженного, где юродивый сталкивается со скоморохами и где граница между ними особо акцентируется как граница не только культур, но и жизни и смерти. В лютые крещенские морозы обнаженный Василий «шаловал» на своем излюбленном месте, где теперь высится собор, ругаясь суетному и горделивому миру. Боярин, почитавший юродивого и особо любимый им, упросил его прикрыть наготу. Тот принял лисью шубу, крытую алым (или зеленым) сукном. Шедшие мимо скоморохи, которые, вероятно, по причине святок ходили из дома в дом, разыгрывая праздничную игру в «умруна», суть которой заключалась в смеховом отпевании и оживлении ряженого покойника, увидели это и позарились на дорогую вещь. Они знали, что Василий как принимает иногда подобные подарки, так и легко с ними расстается. Один из скоморохов, вероятно тот, который обычно брал на себя роль мертвеца и которого в самом начале представления с лицом, натертым мукой, с вставленными в рот длинными зубами из брюквы и завернутого в импровизированный белый саван вносили в дом, говоря: «На вашей могиле покойника нашли — не вашего ли прадедка?» — лег на снег, прямо на дорогу, и притворился мертвым. Когда Василий приблизился, остальные скоморохи, шутовски рыдая и причитая, стали просить юродивого подать на похороны.
«Истинно ли мертв клеврет ваш?» — спросил юродивый. «Истинно мертв, — ответили те. — Только что скончался». Тогда Василий Блаженный снял шубу, окутал ею мнимого мертвеца и сказал: «Буди отныне мертв вовеки!» И мошенник умер и вправду был похоронен в этой шубе [145].
Василий Блаженный включается в «игру» скоморохов или включает их «игру» в свою. Став персонажем игры в «умру-на», смысл которой заключается в том, что мертвый оживает и под всеобщий смех включается в единую с живыми пляску, Василий убивает умирающего и воскресающего мертвеца народной смеховой культуры, а в прошлом — языческого обряда, «во веки». И этим символически убивает и обряд, и игру, и враждебную себе народную смеховую культуру.
Этой сценой талантливый автор жития пытается символически изобразить победу христианских ценностей над древней народно-смеховой, площадной культурой, которую Василий Блаженный одерживает приемами самой этой культуры — включением в игру, как бы взрывая ее изнутри. Однако окончательная победа невозможна, она утопична, ибо, свершившись, она остановила бы жизнь. Юродивый навсегда остается своеобразной смеховой фигурой, очередной персонификацией смеха, стоящего на границе моделируемого мира.
Смех многолик и многообразен в своих многочисленных культурных персонификациях и социальных проявлениях. Смех изменчив, подвижен, и смех первобытный, связанный с мифом и рождающийся в ритуале, отличается от смеха средневекового или современного. Конечно же, смех, впервые прозвучавший из уст загнанного в тупик двойного послания существа, значительно отличается от смеха зрителей античной комедии или цирковой клоунады Нового времени, но сущность его остается прежней. Он маркирует реакцию на двусмысленность, он оживает только в рамках мира, понятого как модель, он стоит на границах, эту модель так или иначе определяющих, он всегда в той или иной степени ритуален, он до сих пор сохранил глубинную биологическую связь с судорожными мышечными спазмами организма, сбрасывающего с себя оцепенение и ужас первого двойного послания, с почти животной (обезьяньей?) «истерикой», из которой родился и тенденцию перехода в которую сохранил до сих пор.
В бытовых представлениях современных людей смех маркирует веселье, радость и даже счастье, то есть получение своей порции, своей доли общего блага, смех воспринимается как яркая примете положительных эмоций. Это иллюзия, подобная оптическому обману, который долгое время заставлял человечество быть уверенным в том, что Солнце вращается вокруг Земли.
Уильям Блейк писал: «Радости не смеются, печали не плачут». Для нас это высказывание осмысливается как утверждение того, что смех как социобиологический феномен, свойственный только человеку, маркирует не столько эмоцию, сколько генерализованную реакцию индивида на двусмысленное послание, на любую ситуацию двусмысленности. И эта двусмысленность, вероятно, восходит к первоначально возникшей в человеческом сознании оппозиции жизни и смерти в самых разных их воплощениях, от мифологического представления о противостоянии хаоса и космоса до современных научных гипотез о возникновении Вселенной и происхождении живой материи.
В нехитром научно-фантастическом романе Роберта Хайлайна «Чужак в чужой стране» человек, воспитанный с младенчества на другой планете и совершенно не знакомый с человеческими знаковыми функциями смеха, мучительно пытается их понять, то есть пытается осмыслить природу и место смеха в общении людей и в культуре человечества. Он долго наблюдает, сравнивает, задает себе вопросы и не может понять, что выражает эта странная, полуживотная аффективно-судорожная реакция, проявляющаяся у людей, как ему кажется, в самых разных, порой диаметрально противоположных ситуациях. Тем более, что сам он никогда не смеется. Озарение приходит на прогулке по зоопарку, когда герой видит драку в обезьяннике из-за лакомых орешков, брошенных в клетку. Зрелый сильный самец отбирает у более молодого и слабого лакомство и избивает его. Пострадавший не преследует обидчика, а в бессильной ярости стучит кулаками по полу, мчится в другой конец клетки, хватает меньшую обезьяну и задает ей трепку похлеще, чем получил сам. Герой, наблюдавший эту картину, впервые в жизни громко хохочет. Он долго не может остановиться, а остановившись, комментирует свое понимание смеха: «Я понял людей. Я понял, почему люди смеются. Они смеются, когда больно, и чтобы не было так больно». Получеловек-полуинопланетянин, засмеявшись, окончательно становится человеком и произносит любопытную фразу: «Мне кажется, когда обезьяны научатся смеяться, они станут людьми» [146].
Пытаясь художественными средствами осмыслить природу человека через иное сознание, сознание «чужого», Р. Хайлайн в построении, как ему кажется, оригинального сюжета идет по ложному пути. Его герой, родившийся человеком, с рождения оказался в окружении доброжелательных к нему разумных существ, не знающих смеха и не нуждающихся в нем, то есть существ, сознание которых не знает бинарных оппозиций и изначально построено по другому принципу, не по-человечески моделирует окружающую реальность. На их планете «запрещено или вообще невозможно то, над чем смеются люди». Заметим, что люди всегда смеются при встрече с двусмысленностью. На придуманной фантастом планете двусмысленностей не бывает, потому что нет того, что люди называют свободой, «там все распланировано Старшими Братьями». Впрочем, автор не смог даже придумать некоего фантастического социума, где бы не существовало двусмысленности. Ибо там, где есть «Старшие Братья», должны быть и «Младшие Братья», там, где есть повелевающие и диктующие свою волю, есть и жертвы, чья свобода угнетается. А раз существует бинарная оппозиция, то само ее наличие не может не порождать хотя бы элементарных двусмысленностей. Человеческий разум, даже самый изобретательный и вычурный разум писателя-фантаста, просто не в состоянии выйти за пределы характерного для человека моделирования мира.
Культура, созданная на воображаемой планете, жестко монолектична. Создавшие такую культуру существа не знают смеха, а значит, неспособны были бы осмыслить жизнь в характерных для человеческого сознания формах и моделях. Недаром для них даже смерть никак не связана со смехом. Значит, в их сознании она никак не связана с жизнью. С точки зрения человеческого сознания такую культуру могли создать только существа с мышлением, подобными шизофреническому. Их мировосприятие должно было бы так кардинально отличаться от человеческого, что даже при самом добром отношении к людскому детенышу и при самом горячем желании воспитать его, наделив интеллектом, успехи их по этой части вряд ли были бы более значительными, чем у стаи волков, вскармливающей очередного Маугли. Существа, придуманные писателем, вряд ли смогли бы создать высокотехнологичную цивилизацию. Их сознание никогда не осмыслило бы, например, двойственную, корпускулярноволновую природу света, не говоря уже о поражающих своей парадоксальностью феноменах микромира. «Чужие» для человеческого мира должны были бы быть не монолектиками, как обезьяны, и не диалектиками, как люди, но полилектиками. Однако их писатель изобразить не смог, да это и вряд ли возможно. И мы не беремся. Мозг человека не способен моделировать полилектическую картину мира. Человек может только констатировать возможность существования таких моделей мира, но проникнуть в суть их структуры, представить себе полилектическую картину мира, а тем более культуру, выстроенную по моделям с большей чем бинарная (или тернарная) мерностью, не в состоянии.