Открытость бездне. Встречи с Достоевским
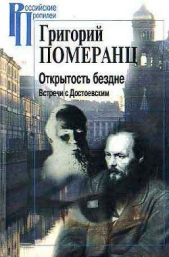
Открытость бездне. Встречи с Достоевским читать книгу онлайн
Творчество Достоевского постигается в свете его исповедания веры: «Если бы как-нибудь оказалось... что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины...» (вне любой философской и религиозной идеи, вне любого мировоззрения). Автор исследует, как этот внутренний свет пробивается сквозь «точки безумия» героя Достоевского, в колебаниях между «идеалом Мадонны» и «идеалом содомским», – и пытается понять внутренний строй единого ненаписанного романа («Жития великого грешника»), отражением которого были пять написанных великих романов, начиная с «Преступления и наказания». Полемические гиперболы Достоевского связываются со становлением его стиля. Прослеживается, как вспышки ксенофобии снимаются в порывах к всемирной отзывчивости, к планете без ненависти («Сон смешного человека»).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В 1939 году я прочитал этот панегирик войне с большим сочувствием. Но года три спустя мне пришлось проходить через поле, над которым висел густой трупный смрад, и несколько раз я натыкался на недохороненные руки или ноги, торчавшие из ровиков (трупы туда запихивали кое как). После этого я лучше понял Льва Толстого, твердо стоявшего против всякой войны.
Раздавались голоса, предлагавшие защитникам славян освободить для начала Польшу; или показать туркам пример гуманности к инородцам, упразднив черту оседлости. Но попытки вернуть к реальности человека, захваченного мифом, вызывали раздраженные реплики. Миф освобождает от ужаса фактов, разбросанных без всякого порядка в пространстве и времени. Миф заслоняет бездну, в которую все проваливается, мнимым космосом, где все на месте, и правда прописана у народобога, а ложь – у народодьявола:
«Мне иногда входила в голову фантазия: ну что, если б это не евреев было в России три миллиона, а русских; а евреев было бы 80 миллионов – ну, во что бы обратились бы у них русские и как бы они их третировали? Дали бы они им сравняться с собою в правах? Дали бы им молиться среди них свободно? Не обратили ли бы прямо в рабов? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсем? Не избили бы дотла, до окончательного истребления, как делывали они с чужими народностями в старину, в древнюю свою историю?»
О евреях можно сказать много дурного, оставаясь на почве исторических фактов. Но мифотворцу мало фактов. Из фактов нельзя выстроить образ народодьявола. И вот вместо фактов – предположения, решительно ни на чем не основанные и временами прямо противоречащие Библии (она запрещает жестокие казни); или присвоение одним евреям обычного права племенной войны (и в славянской летописи можно найти память об этом: «погибоша аки обре, их же несть ни племени, ни наследка». Несть, потому что всех вырезали).
По законам мифа строится и кроткая реакция народобога, вынужденного терпеть народодьявола: «Весь народ наш смотрит на еврея, повторяю это, без всякой предвзятой ненависти. Я пятьдесят лет видел это. Мне даже случалось жить с народом, в массе народа <...> Там было несколько евреев – и никто не презирал их, никто не исключал их, не гнал их». Можно подумать, что никогда не было еврейских погромов. Правда, при жизни Достоевского их не было. Этого не допускала имперская власть, переселив на Кубань беспокойных запорожцев. К сожалению, в памяти культуры стереотип погрома вовсе не был преодолен; напротив, он сохранялся как удаль, молодечество – в украинских думах, в поэме Тараса Шевченко «Гайдамаки», в повести Гоголя «Тарас Бульба». И буквально через месяц после смерти Достоевского началась новая погромная волна. Если бы Достоевский жил дольше, то, может быть, ужаснулся ей. Но этого живого впечатления не было. И Достоевский приписывает евреям все пороки, в том числе исключающие друг друга: исповедание демонической религии и материализма, разрушающего любую религию. Вообще все пороки буржуазной цивилизации, еще совсем недавно (в 1864 году) рисовавшиеся как французские и немецкие пороки, выводятся из природы жидовства. Конечно, оговаривается Достоевский, зло «не от одних евреев, но если евреи окончательно восторжествовали и процвели в Европе именно тогда, когда там восторжествовали эти новые начала (материализм и жажда обеспеченности. – Г. П.) даже до степени возведения их в нравственный принцип, то нельзя не заключить, что и евреи приложили тут своего влияния. Наши оппоненты указывают, что евреи, напротив, бедны, повсеместно даже бедны, а в России особенно, что только самая верхушка евреев богата, банкиры и цари бирж, а из остальных евреев чуть ли не девять десятых их – буквально нищие, мечутся из-за куска хлеба, предлагают куртаж, ищут, где бы урвать копейку на хлеб. Да, это, кажется, правда, но что же это обозначает? Не значит ли это именно, что в самом труде евреев (то есть огромного большинства их, по крайней мере), в самой эксплуатации их заключается нечто неправильное, ненормальное, нечто неестественное, несущее само в себе свою кару. Еврей предлагает посредничество, торгует чужим трудом. Капитал есть накопленный труд; еврей любит торговать чужим трудом! Но всё же это пока ничего не изменяет; зато верхушка евреев воцаряется над человечеством всё сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть» (т. 25, с. 85).
Во всех этих цитатах, которые я выписал достаточно полно, поражает совершенное пренебрежение здравым смыслом. Самые неожиданные суждения вводятся с помощью оборота «может быть», и тут же «может быть» переходит во «всегда»: «долгий мир всегда родит жестокость...» Нищета девяти десятых евреев объясняется тем, что сами занятия их несут в себе кару, ибо нехорошо торговать чужим трудом. Но тогда непонятно, почему Ротшильд от этого же занятия богатеет и почему не богатеют портные, сапожники, столяры, возчики, наконец – мелкие лавочники, честно торгующие крупой и селедкой (а вовсе не чужим трудом) ; и почему бедны русские крестьяне, за что их наказывает Бог. «Огромное большинство» ни на какой статистике не основано и никакой статистикой не может быть опровергнуто: это чисто мифологическое существо; даже если все эмпирические евреи уйдут из сферы торговли, миф не пошатнется.
Опыт показал, что во всех странах, подвергшихся вестернизации, выдвигались этнические группы, быстрее ориентирующиеся в новой обстановке, чем большинство населения; и на эти группы обрушивался народный гнев. В турецкой империи это были армяне и левантийские христиане (с точки зрения турка, власть денег была армянской идеей); в Юго-Восточной Азии эту роль сыграли зарубежные китайцы и тамилы; в Индии – парсы и джайны; в Нигерии – народность ибо, судьба которой напоминает еврейскую и армянскую. Малайские националисты пишут о китайцах с таким же ужасом и ненавистью, как черносотенцы о евреях.
Никакой этнической или религиозной общности у евреев, армян, китайцев и тамилов нет; есть общность социальной роли в ходе модернизации и общность судьбы: геноцид армян в 1915 году, геноцид евреев в 40-е годы, истребление ибо в 60-е годы, неоднократные погромы, направленные против зарубежных китайцев и тамилов. Достоевский всех этих фактов не знал; не мог он прочесть и статьи Н. С. Трубецкого о превращении русских эмигрантов в диаспору наподобие еврейской. Однако вряд ли факты его бы переубедили; достаточно много фактов было ему известно – и отброшено в сторону. Кроме того, можно сослаться на выступления наших современников Белова и Распутина: у них были все возможности познакомиться с теорией модернизации, но показалось неинтересно; зато очень привлекал миф о жидомасонах. Приемы защиты мифа – такие же, как у Достоевского: «наверное, на нашего Иосифа Виссарионовича мог повлиять Ворошилов или Каганович»; «наверное, общество «Память» нельзя называть черносотенным, фашистским». Это из выступления Распутина, которое передавалось по телевидению летом 1988 года. У Достоевского «может быть», у Распутина «наверное». Спорное суждение вводится уступительным оборотом, а дальше с ним оперируют как с доказанным тезисом. В. Кожинов придал этому приему философский лоск, противопоставив «правду» – «истине». Правда – это факты, разрушающие миф (например, деятельность Сталина или Лысенко). Истина – такая перетасовка фактов, при которой миф восстанавливается (Сталин – агент масонов или троцкист, Лысенко – марионетка в руках Презента).
Бросается в глаза, что концепция истины вне правды – пародия на credo Достоевского; истина жидомасонского мифа становится на место Христа, правда научного исследования – на место дефектной «истины». Этот исторический опыт показывает ограниченность credo (и всякого иррационализма). Credo подводит разум к тайне целого и заставляет замолчать, уступить место созерцанию. В этом повороте оно истинно. Повернутая к фактам, рассыпанным в пространстве и времени, формула credo становится соблазном подменить добросовестное исследование, поиски действительных закономерностей фантастической конструкцией. Расшатанная логика позволяет ввести все, что угодно. Например: «Если б даже было и доказано, что мы и не можем быть лучше, то этим вовсе мы не оправданы, потому что вздор все это: мы можем и должны быть лучше» [77].


























