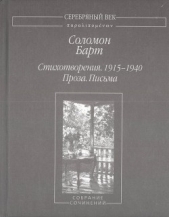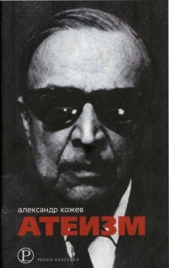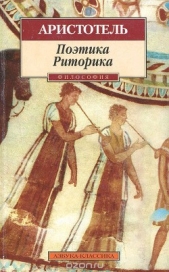Семиотика, Поэтика (Избранные работы)
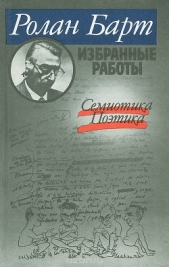
Семиотика, Поэтика (Избранные работы) читать книгу онлайн
В сборник избранных работ известного французского литературоведа и семиолога Р.Барта вошли статьи и эссе, отражающие разные периоды его научной деятельности. Исследования Р.Барта - главы французской "новой критики", разрабатывавшего наряду с Кл.Леви-Строссом, Ж.Лаканом, М.Фуко и др. структуралистскую методологию в гуманитарных науках, посвящены проблемам семиотики культуры и литературы. Среди культурологических работ Р.Барта читатель найдет впервые публикуемые в русском переводе "Мифологии", "Смерть автора", "Удовольствие от текста", "Война языков", "О Расине" и др. Книга предназначена для семиологов, литературоведов, лингвистов, философов, историков, искусствоведов, а также всех интересующихся проблемами теории культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
("Британии", II, 3) (Пер. Э. Линецкой)
Да не обидится царевич непреклонный:
Хоть о любви молчал, глядел он, как влюбленный.
("Федра", II, 1) (Пер. М. Донского)
106 Весь свой спокойный гнев направлю я на месть.
("Баязид", IV, 5)(Пер. Л. Цывьяна, с изменением)
204
Расиновский логос никогда не отрывается от самого себя, он экспрессивен, а не транзитивен, он никогда не направлен на манипулирование предметом или на изменение реальности; он всегда остается самоисчерпывающая тавтология - языком языка. Вероятно, его можно было бы свести к ограниченному набору артикуляций и клаузул совершенно тривиального свойства - и совсем не потому, что вульгарны "чувства" героев (как с наслаждением полагала вульгарная критика, критика Сарсе и Леметра 107), но потому, что тривиальность - неотъемлемая форма под-языка, этого логоса, который беспрерывно рождается и никогда не завершается. Именно в этом, кстати, и состоит удача Расина: его поэтическое письмо было достаточно прозрачным, чтобы мы могли угадать почти базарный характер "сцены"; артикуляционный субстрат настолько близок, что он наполняет расиновский дискурс естественным дыханием, расслабленностью - я бы даже сказал, чуть ли не "свингом".
Логос и Праксис.
В расиновской трагедии заявляет о себе подлинная универсальность языка. Язык здесь в каком-то упоении поглощает все функции, обычно отводимые прочим формам поведения; хочется даже назвать этот язык политехническим. Этот язык - орган восприятия, он может заменять зрение, как если бы зрячим стало ухо 108; этот язык - чувство, ибо любить, страдать, умирать - все это здесь значит говорить, и ничего больше; этот язык - субстанция, он защищает (быть в смятении - значит перестать говорить, значит оказаться раскрытым); этот язык - порядок, он позволяет герою оправдать свои агрессии или свои поражения и извлечь отсюда иллюзию согласия с миром; этот язык - мораль, он позволяет обратить личную страсть в право.
107 По мнению подобных критиков, Расин, например, в "Андромахе" изобразил историю вдовы, которая готовится вступить в повторный брак и колеблется между интересами своего ребенка и памятью о покойном муже (Цит. по: Adam A. Histoire de la litterature francaise au XVIIe siecle, t. IV. P.: Domat, 1954, p. 347).
108 В Серале ухо становится важнейшим органом восприятия ("Баязид", I, 1).
205
Быть может, это и есть ключ к расиновским трагедиям: говорить - значит делать, Логос берет на себя функции Праксиса и замещает собою Праксис; все разочарование мира концентрируется и искупается в слове, действование опустошается, язык наполняется. Речь отнюдь не идет о празднословии: театр Расина - не болтливый театр (в известном смысле театр Корнеля куда болтливее); это театр, где речь и действование гонятся друг за другом и соединяются лишь на мгновение, чтобы немедленно вновь бежать друг от друга. Можно было бы сказать, что слово здесь не акция, а реакция. Быть может, это объясняет нам, почему Расин так легко подчинился жесткому правилу единства времени: для него время говорения совпадает безо всякого труда с реальным временем, поскольку реальность - это и есть слово; этим же объясняется, почему он возвел "Беренику" в ранг образца своей драматургии: действие в этой пьесе стремится к нулю, за счет чего гипертрофируется слово .
Итак, в основе трагедии лежит это слово-действие. Его функция очевидна: опосредовать Отношение Силы. В безнадежно расколотом мире трагические герои общаются друг с другом только на языке агрессии: они действуют посредством языка, они выговаривают свой раскол, это реальность и граница их статуса. Логос работает здесь как своего рода турникет между надеждой и разочарованием: он вводит в исходный конфликт третий элемент (говорение есть длительность) и в эту минуту является настоящим действованием; затем он удаляется, вновь становится языком, отношение силы вновь лишается опосредования, и герой вновь погружается в изначальное поражение, которое его защищает. Этот трагедийный логос являет собой не что иное, как иллюзию диалектики; он дает форму выхода, но только лишь форму, и не более того: это нарисованная дверь, о которую то и дело ударяется герой, дверь, которая попеременно становится то рисунком, то настоящей дверью.
109 "Герой и героиня (...) которые весьма часто страдают больше всех и действуют меньше всех" (Д'Обиньяк.-Цит. по: Scherer J. La dramaturgie classique en France. P.: Nizet, 1959, p. 29).
206
Этим парадоксом объясняется смятенность расиновского логоса: он одновременно вмещает возбужденность слов и зачарованность молчанием, иллюзию могущества и боязнь остановиться. Заточенные в слове, конфликты становятся циркулярными, поскольку ничто не мешает другому вновь взять слово. Язык рисует восхитительную и страшную картину мира, в котором бесконечно возможны бесконечные перевороты; поэтому у Расина агрессия столь часто превращается в своеобразный терпеливый "мариводаж"; герой делается преувеличенно глупым для того, чтобы не дать кончиться ссоре, чтобы отдалить страшное время молчания. Ибо молчание означает вторжение подлинного действования, крушение всего трагедийного аппарата: положить конец слову значит начать необратимый процесс. Теперь мы видим подлинную утопию расиновской трагедии; это идеал такого мира, в котором слово становится выходом; но теперь мы видим также и подлинную границу этой утопии: ее невероятность. Язык никогда не бывает доказательством: расиновский герой никогда не может доказать себя; мы никогда не знаем, кто и с кем говорит 110. Трагедия - это поражение, которое говорит о себе, и не более того.
Итак, конфликт между бытием и действованием разрешается здесь через кажимость. Но тем самым закладывается основа зрелища как искусства. Несомненно, расиновская трагедия - одна из самых умных, какие были когда-либо предприняты, попыток придать поражению эстетическую глубину, расиновская трагедия - это действительно искусство поражения, это восхитительно хитроумное построение спектакля о невозможном. В этом отношении она, как кажется, противостоит мифу, поскольку миф исходит из противоречий и неуклонно стремится к их опосредованию 111; трагедия же, напротив, замораживает противоречия, отвергает опосредование, оставляет конфликт открытым; и в самом деле,
110 "Психологически" проблема истинности расиновского героя неразрешима: невозможно определить истинные чувства Тита к Беренике. Тит становится истинным лишь в тот миг, когда он расстается с Береникой, т. e. переходит от логоса к праксису.
111 Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1983 г., гл. XI.
207
всякий раз как Расин берется за некий миф, чтобы обратить его в трагедию, он в известном смысле отвергает миф, делает из мифа окончательно закрытую фабулу. Однако в конечном счете происходит следующее: пройдя через глубокую эстетическую рефлексию, обретя твердую внешнюю форму, подвергнувшись последовательной систематизации от пьесы к пьесе, в результате чего мы можем говорить о расиновской трагедии как об особом и целостном явлении, наконец, став объектом восхищенного внимания потомков этот отказ от мифа сам становится мифическим: трагедия - это миф о поражении мифа. В конечном счете трагедия стремится к диалектической функции: она верит, что зрелище поражения может стать преодолением поражения, а страсть к непосредственному может стать опосредованием. Когда все прочее уже разрушено, трагедия остается спектаклем, то есть согласием с миром.
1960.
III. История или литература?
На французском радио существовала когда-то одна наивная и трогательная передача: трогательная, поскольку она хотела убедить широкую публику в том, что имеется не только история музыки, но и некие отношения между историей и музыкой; наивная, поскольку эти отношения она сводила к чистой хронологии. Нам говорили: "1789 год: созыв Генеральных штатов, отставка Неккера, концерт № 490 до минор для струнных Б. Галуппи". Оставалось догадываться, хочет ли автор передачи уверить нас в том, что между отставкой Неккера и концертом Галуппи наличествует внутреннее подобие, или же он имеет в виду, что оба явления составляют единый причинно-следственный комплекс, либо, напротив, он хочет обратить наше внимание на пикантность подобного соседства, чтобы мы как следует прочувствовали всю разницу между революцией и концертом для струнных - если только автор не преследует более коварную цель: продемонстрировать нам под вывеской истории хаотичность художественного процесса и несостоятельность всеохватных исторических обобщений, показав на конкретном примере всю смехотворность метода, который сближает сонаты Корелли с морским сражением при Уг, а "Крики мира" Онеггера - с избранием президента Думера.