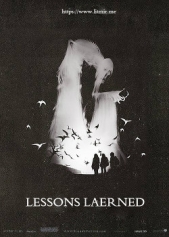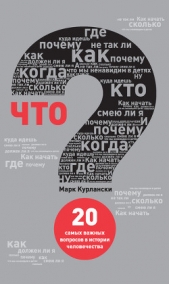Античный город

Античный город читать книгу онлайн
Понятия демократии и свободы обычно рассматриваются как некие абсолютные ценности. Однако анализ истории античного города приводит к шокирующим выводам.
Демократическая форма правления возникает и развивается вовсе не как ответ на чаяния угнетаемых масс, но как инструмент предельной мобилизации древней общины. В отличие от авторитарных государств демократический полис обретает возможность привлечь в обеспечение своей экспансии не только материальные ресурсы – инструментом войны становятся все институты государства, и в первую очередь его идеология и право. Более того, благодаря уникальной системе воспитания впервые в истории орудием агрессии становится нравственный потенциал гражданина. Благодаря всему этому античный город оказывается монопольным обладателем последней тайны войны и единственным «профессионалом» в окружении дилетантов.
Ведущаяся демократическим режимом война становится тотальной и вечной, ибо закончиться она может лишь по достижении абсолютной свободы, то есть после построения такого миропорядка, когда только один – победитель – получает обеспеченное силой оружия, закона и государственного мифа право вершить свой суд над всем миром. Свобода демократического полиса – это идеал, когда все повинуются одному не из страха перед репрессиями, но из благодарности победителю.
Для широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Словом, о личной свободе, о не стеснённой никакими ограничениями частной жизни не могло быть и речи. Там же, где иногда встречалась некоторая раскованность поведения, как, например, в Афинах времён упадка, сказывалась скорее слабая эффективность городской полиции. Так что не было бы преувеличением сказать, что многие черты тоталитаризма со всей отчётливостью обнаруживаются в организации полисной жизни. Мы вновь убеждаемся в том, что античный город каким-то глубинным инстинктом добивается тотальной мобилизации каждого своего гражданина, лишь опережение всех в темпах именно этой мобилизации позволяет ему не только выжить в условиях непрекращающейся войны против себе подобных, но и побеждать.
И всё же знаменитое утверждение Перикла, с правления которого, собственно, и начинается упадок Афин, не содержит в себе никаких передержек, ибо с точки зрения эллина все эти ограничения столь же не существенны в его понимании свободы, сколь сегодня – правила дорожного движения. Мы уже говорили о том, что расширение демократических начал деперсонифицирует действительный источник государственной власти, и там, где он вообще растворяется в воздухе, перестаёт отождествляться с каким-то конкретным социальным слоем, кастой, идеология общины полностью подчиняет себе сознание любого индивида. Но индивидуальное сознание в этом случае уже не в состоянии распознать внешний диктат; никакие ограничения, накладываемые чужой волей, уже не распознаются им, а в результате любые побуждения предстают уже как свободные проявления своей собственной. Словом, представление о неограниченной личной свободе, конечно же, должно было существовать и в этом, как может показаться сегодня, далёком зародыше тоталитарного режима. Но, точно так же, как воззрения Гераклита о пульсирующей вселенной нельзя равнять с современными космологическими теориями, наивное представление эллина о свободе ни в коем случае не следует путать с тем, которое господствует сейчас.
Цицерон будет утверждать, что само наличие свободы предполагает обязательность несвободы, рабства. Это как бы два полюса какой-то высшей, не во всём понятной разумению тогдашнего обывателя реальности; и каждый из них, как и любой полюс вообще, не в состоянии существовать без другого. Конечно, Цицерон – это не самый крупный авторитет в области общественно-политической теории, но именно поэтому его свидетельство по-своему особенно ценно. Только профессиональный философ обязан опережать развитие общественного сознания, определять его вектор. Юрист, оратор, политический деятель, словом, человек далёкий кабинетной премудрости, он должен уметь другое – остро чувствовать то, что носится в самом воздухе его времени, и находить ему подходящие и точные формулировки. Собственно, способность к этому и определяет квалификацию любого общественного деятеля. Но здесь, в воззрениях Цицерона, мы успеваем захватить уже умирающий, взгляд на вещи. Так, Сенека (1 до н. э. / 1 н. э., Кордуба, ныне Кордова, Испания – 65 н. э., Рим), римский государственный деятель, писатель, философ, в 47 письме к Луцилию составленном в то ли в 63, то ли в 64 году, пишет: «Я с радостью узнаю от приезжающих из твоих мест, что ты обходишься со своими рабами, как с близкими. Так и подобает при твоём уме и образованности. Они рабы? Нет, люди. Они рабы? Нет, твои соседи по дому. Они рабы? Нет, твои смиренные друзья. Они рабы? Нет, твои товарищи по рабству, если ты вспомнишь, что и над тобой, и над ними одинакова власть фортуны». [149] Впрочем, даже умирающий, этот взгляд, по-видимому, всё ещё продолжает властвовать над сознанием римлянина (да и Сенека советуя обходиться «со стоящими ниже так, как ты хотел бы, чтобы с тобой обращались стоящие выше», отнюдь не приветствует освобождение рабов).
В воздухе же греческих городов расцветших задолго до возвышения Рима носилось представление родственное именно тому, о котором говорит Цицерон. Если профессиональные философы ещё и могли размышлять о глубинном смысле общих категорий, то обиходное понятие свободы практически не имело никакого самостоятельного положительного содержания и раскрывалось только в противопоставлении несвободе, рабству, как прямое отрицание этих материй. Быть свободным означало только одно – не быть рабом, и если каким-то чудом из жизни эллина можно было бы убрать институт рабства, с ним тотчас же исчезло бы и всякое представление о гражданской свободе.
Кстати, такое представление, вопреки обыденному мнению, роднило Грецию с Востоком. Рабство – это некое маргинальное состояние далеко не только для неё; практически во всех культурах человек, не бывший даже вольноотпущенником, а во многих случаях и не имевший рабов в своём роду, имел достаточно оснований гордиться своим положением, даже если он и не занимал высоких мест в единой социальной иерархии. Ведь благодаря именно этому обстоятельству ниже его были многие. Содержание, которое вкладывает сюда современное понимание свободы, – отсутствие ограничений, накладываемых своим обществом, кланом, сородичами, – рассматривалось бы в то время как тяжёлая жизненная катастрофа, как одно из самых больших несчастий, что может выпасть на долю человека, не только Востоком, но и самой Грецией. Древнегреческий язык и латынь обозначали человека, обладающего свободой, как лицо, которое принадлежало своему роду, имело общее происхождение со своими соплеменниками, разделяло уклад их жизни и было наделено сходным с ними образом мысли. Впрочем, это было общим и для многих других (если не сказать всех) языков; практически везде термин «рабы» относился к группе людей, полностью исключённых из крайне замкнутой и строго оберегаемой среды равного, дружеского общения.
Свобода как особое состояние духа, побуждающее человека к творчеству, ещё практически неведома греческому полису; для него существует лишь чисто внешний её аспект, то, что впоследствии будет названо «свободой от» (в противоположность «свободе для»). Лишь с победой в персидских войнах начинается пробуждение этого особого состояния, но и оно ещё требует своего осознания. Иначе говоря, расцвет творчества в эпоху Перикла – это во многом стихийный взрыв, не влекущий за собой радикального изменения менталитета. Поэтому свободный человек греческого полиса был тем, что сегодня определяется нами многозначным понятием «свой». На него в полной мере распространялась мораль рода, его обычаи, законы, система его табуации; все это, конечно же, ко многому обязывало любого индивида. А следовательно, в известном смысле служило ограничением, связывало его действия, его инициативу. Но вместе с тем нисколько не сказывалось на его свободе, ибо в действительности в её определение входило ещё и другое – та защита, которую гарантировал человеку его род. Ведь отсутствие ограничений отнюдь не исчерпывает понятие свободы, но образует лишь один из её полюсов. Другим – и, может быть, самым главным – является система гарантий, представляемых общиной каждому своему члену в том, что любые действия в сфере разрешённого (или явно не запрещённого системой существующих в ней ограничений) будут в случае необходимости поддержаны всей силой всех её институтов. Словом, действительная свобода существует только там, где индивид уверен в том, что община либо немедленно сметёт с его пути любые препятствия, не обусловленные её законами, обычаями, моралью, либо в самом коротком времени восстановит попранную чем-либо справедливость.
В свою очередь, раб, как уже было сказано здесь, – это «не наш»; именно поэтому рабу не было дано интегрироваться в систему отношений, что связывала воедино всех членов общины, а вместе с ними ему было отказано и в защите со стороны её институтов. Кстати, и сегодня клич: «Наших бьют!» в мгновение ока собирает не рассуждающую ни о чём, но изначально готовую к бою толпу. В какой-то степени это отзвук ещё тотемных представлений: тотем не может оказывать защиту тому, кто всецело принадлежит чужому тотему, и обязан сокрушить любого, кто представляет угрозу для него самого. Таким образом, не одни только требования законов, обычаев, морали, которые предъявляются к человеку, но и отсутствие гарантий, защиты со стороны рода формируют собой те самые «стеснения, ограничения», что препятствуют ему проявить свою волю, реализовать какие-то начинания. Словом, ключевым являлось то обстоятельство, что раб представал чужаком, полностью лишённым оснований пользоваться гарантиями общины, и только поэтому абсолютно несвободным.