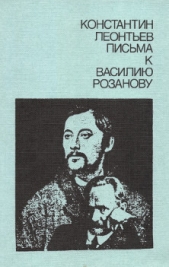Моя литературная судьба (Автобиография Константина Леонтьева)

Моя литературная судьба (Автобиография Константина Леонтьева) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Его как будто что-то кольнуло, он подался вперед и с живейшим участием воскликнул: "Ах! это вы Константинов!!" После этого любезность его удвоилась и приняла даже тот чуть заметный оттенок почтения или уважительности, который Умеют придать, не роняя себя и возвышая собеседника своим словом и приемом, порядочные и светские люди, когда хотят доставить ему удовольствие или когда повинуются сами невольному чувству. Я постарался передать в точности наш разговор для того, чтобы видели люди, кто из нас прав и кто виноват в том, что мы впоследствии не сошлись. Я начал с того, что сказал ему прямо так:
-- Я вышел в отставку вовсе не по разладу с начальством; напротив того, я рискнул приехать сюда, потому что нет никакой возможности печатать и издавать в России что-нибудь за глаза. Конечно, можно сказать, что я поступил нерасчетливо, но и это решит только будущее. Найдутся, может быть, справедливые люди, которые поймут мое положение и поддержат меня.
Он очень заботливо расспросил меня о моих отношениях с Катковым, и я сказал ему, что по вине самой редакции я задолжал ей около 4000, что дело с ним имею поневоле, ибо другого журнала нереволюционного нет и т. д. и прибавил:
-- Поймите, зависеть от Каткова вовсе мне не по душе, потому что я его умеренному европеизму не сочувствую. Для меня Мордва милее Европы. Аксаков очень искренно и сочувственно засмеялся и сказал: "Еще бы! Я это понимаю!"
Я донес ему еще на Каткова, что еще в 69-ом году, когда я приезжал из Турции в отпуск, он, видимо, стараясь подчинить меня больше своему направлению, сказал: -Мне, признаюсь, претит одно это ваше славянофильство. Славянофильство -- какая-то гримаса, больше ничего. Пусть сама жизнь вырабатывает эти оригинальные формы, а прежде времени учить нас -- это доктринерство. Аксаков, с пренебрежением улыбаясь, слушал этот донос мой, который я излагал всласть, ибо терпеть не могу и западный прогресс и разжиженное англо-саксонство Вестника, и самый характер Мих. Н-ча, его фальшивую улыбку, его сухость, раздражительность, доходящую до грубости и т. д. Слово за словом я сказал Аксакову о книге моей "Визан-тизм и славянство", просил его прочесть ее в рукописи и, если можно, найти возможность напечатать ее. Таким образом мы заговорили прямо о славянах, о славянофильстве, о болгарском вопросе.
-- Вторая часть моей книги, -- сказал я, -- чисто практическая, она написана противу болгар, которые и нравственно и канонически не правы. Эту часть Катков напечатать не прочь с сокращениями. Но в книге есть другие отделения: "О психическом характере греков и югославян" и еще вот та система особая, о которой я не говорю потому, что вы сами прочтете и увидите. Он стал меня расспрашивать о болгарах, и я ему сказал, между прочим, вот что:
-- Многие у нас воображают себе болгар какими-то жертвами и только. Людьми невинными, патриархальными; но надо видеть самому вблизи этих болгарских вождей-буржуа... Какое-то противное соединение Собакевича с Гамбеттой. Я ему рассказал, что знал об этих богатых старшинах и вождях югославизма, о том, напр., как иные из них, обитающие на о. Халках, ездят каждый день по делам в Константинополь и на пароходах сидят все время в 1-м классе, а в ту минуту, когда идет человек сбирать плату за места, умеют почти всегда исчезать и оказываться в низшем классе, чтобы платить дешевле, тогда как и вся плата ничтожна.
Он много смеялся этому. Я описал ему также, как болгарский архонт Топчилешта, здоровый болгарский Собакевич, идет по улице с базара и несет сам под мышкой огромную связку лука, как этот скучный рябой Бурмов, корреспондент Каткова, покупает вишни и торгуется и как грек лавочник восклицает: "Плохи вишни! Да где ты видел такие! Сказано болгарская голова!" и блестящий корреспондент в высоком цилиндре поспешно уходит.
Я прибавил вот что: "Если бы Топчилешта был старик в восточной одежде, в шальварах и нес бы сам лук по улице, несмотря на свое богатство, то впечатление было бы совсем иное... Он внушал бы симпатии и уважение. А когда видишь эти нескладные, дурно сшитые сюртуки, когда слышишь все эти вычитанные из западных книг фразы о просвещении, о равенстве и свободе... то видишь перед собою вовсе не того почтенного славянского патриарха, которого желал бы видеть и чтить, а так какого-то обыкновенного буржуа, только грубее и глупее европейского". Аксаков слушал все это улыбаясь и одобрительно. Я чувствовал, что все, что я говорю, ему приятно. Мы долго говорили. Я сказал ему искренно о моих отношениях к Каткову то же, что говорил и Погодину, то есть, что печатать больше негде и что иметь дело с Катковым очень тяжело, потому что надо во всем беспрестанно стесняться, когда пишешь не повести, а статьи.
-- "Да! Я это понимаю, понимаю", -- сказал Аксаков с выражением особенно интимным и сочувственным в лице и голосе...
Я сказал ему еще кое-что о славянофильстве: мне хотелось проверить самого себя. Я так долго жил и мыслил в уединении турецких провинций, что почти все мои мысли о славянах, Европе и Востоке создались и созрели беспомощно и независимо; в книгах даже был недостаток, а беседы и споров с настоящими, признанными авторитетами того учения, к которому я себя причислял, совсем у меня не было. Я сказал ему вот что (именно то, что я говорю и в тех статьях моих, которые находятся теперь ненапечатанными по разным рукам и в других еще неоконченных):
-- Я не раз думал и говорил друзьям и знакомым своим, что в славянофильстве не столько сами славяне важны, сколько то, что в них есть особенного славянского, отделяющего нас от Запада... И что славянофил истинный не славян во что бы то ни стало и во всех формах должен любить, а именно это особое культурно-славянское... Если только оно найдется или выработается... Вот в чем задача... А что же толку в славянстве ради славянства, политическая сила и больше ничего... И то еще вопрос -- будет ли сильно это всеславянство, если оно не будет оригинально, если у него не будет своих особых от Европы принципов...
-- Разумеется нет, -- сказал Аксаков... Я продолжал:
-- Я часто думал также, если бы Хомякова или Киреевских, или брата вашего поднять из гроба и спросить у них по совести, что лучше: слияние русских с югославянами и неизбежная при этом утрата последней культурной оригинальности, отделяющей нас от Запада, или союз, сближение, смешение даже с турками, тибетцами, индусами какими-нибудь, чтобы только создать что-нибудь свое особое, органическое под их воздействием, хотя бы косвенным, -- то все прежние славянофилы предпочли бы этих азиатцев -- славянам. Дело в своей культуре, а вовсе не в славянах. Опять выражение одобрения, опять: "ну, разумеется!", опять как бы радостное кивание главой.
Я прибавил еще: "К сожалению, я напрасно ищу чего-нибудь особенно славянского, сильно выраженного у славян. Я начинаю разочаровываться не в самом учении, а в славянской жизни, которая не хочет идти по этому пути... Аксаков: "Славянофилы надеются, что сближение всех славян между собою -- послужит к выработке этих особенностей".
Я: "А если это сближение с юго-западными славянами приведет нас к тому, что мы еще скорей сольемся с Западной Европой, тогда что?.." Аксаков: "Ну, тогда все пропало!"
Я обрадовался и успокоился; я увидел, что я верно понимал славянофилов и потому могу смело рассчитывать на всякую от них помощь. Я прошу моих друзей внимательно перечесть этот разговор и сравнить потом, когда дело дойдет до практических приложений этих взглядов, мою прямоту и последовательность с лицемерием или непоследовательностью Аксакова.
Итак, на первый раз он был более чем любезен со мной; он пригласил меня бывать у него по четвергам вечером.
После того, в течение этого октября, в который решилось для меня столькое, мы виделись несколько раз. Дня через два после моего первого посещения Аксаков сам заехал ко мне, не
застал меня дома и оставил карточку с надписью, что четверги его начинаются с будущей недели.
Мне хотелось, чтобы кто-нибудь из славянофилов прочел первую часть моего труда "Византизм и славянство", ту теоретическую часть о триедином процессе развития, которую отверг М.Н. Катков, отзываясь, что в таких вещах можно как раз договориться до чертиков[7]. Рукопись моя, черновая, как всегда была ужасно дурно написана, ибо я трудился над нею через силу во время палящих Босфорских каникул и только живость моего чувства и нестерпимая буря накопившихся мыслей могли через силу бороться с гнетущим жаром южного лета. Старик Погодин был нездоров, глаза его и без того утомленные постоянной работой над собственными сочинениями, воспоминаниями и т. д. отказывались решительно разбирать мои иероглифы. Погодин, чтобы я верил ему, вынул из ящика тетрадь мою и при мне бился-бился и не разобрал почти ни одного слова.