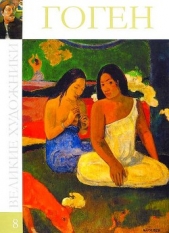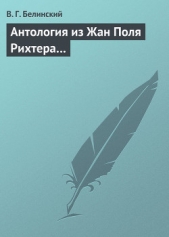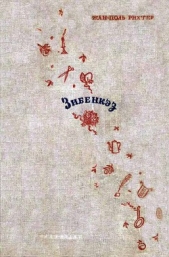Приготовительная школа эстетики
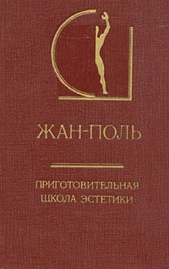
Приготовительная школа эстетики читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но чтобы отменой этого Нантского эдикта в свою очередь не изгнать утонченные души, проживающие на берегах Плейссе, шута смывшей и с собой унесшей {3}, этот субъект должен всенепременно расстаться со своими запечными и кухонными прозвищами, каковы — Гансвурст, Пикельхеринг, Касперль, Липпеуль. Скапен и Труффальдино и то лучше. А возможно, ему захочется предстать перед нами в облике человека солидного с именем неведомым испанским — Косме, Грациозо...
Если в эпосе поэт играл роль глупца, если в драме глупец играл свою роль и роль поэта, но так, что верх брал объективный контраст, то в лирике поэт должен играть свою роль и роль глупца, то есть в одну и ту же безумную минуту смеяться и быть смешным, но так, чтобы в одно и то же время перевешивали чувственность и субъективный контраст. Юмор в роли комического мирового духа является в виде карлика и духа плененного — подобного лешему, домовому, гамадриаде тернового куста, я хочу сказать — таким должен он явиться к нам как каприз, — а юмор к капризу относится как ирония к насмешке. У юмора точка сравнения более высокая, у каприза — более низкая. Поэт до какой-то степени превращается в то, что он осмеивает; и в комической лирике вновь выходит на первый план, под именем «бурлеска», субъект-объектность шеллинговского «Пана» {1}. Ибо бурлеск рисует низкое и вместе с тем есть это низкое; поэт бурлеска — Сирена, у которой одна половина тела — прекрасна, но вот поднимается-то из моря как раз вторая, животная половина, а часто это даже пастораль, но только расслышимая в лае пастушьей собаки.
Сюда же я отношу всякое перелицовывание, «травести» — вопреки иллюзии эпической формы, поскольку эпического нет там, где сам поэт смакует будущие ощущения читателя и объекта, — это обратно иронии: ирония точно так же прикрывает и приглушает свой смех, как бурлеск его приоткрывает и им оглушает. Но как же представить низко-комическое без низости? Мой ответ: в стихах. Автор настоящей книги долгое время не понимал, почему комическая проза большинства писателей всегда казалась ему слишком низкой и субъективно производила на него отвратительное впечатление, тогда как нередко он находил вполне приемлемым еще более низкого Комуса книттельферзов {2}. Но как метрический котурн поднимает человека, и слово, и зрителя в мир высших свобод, так и сокк комического стихосложения дарует автору маскарадную свободу от унижения, — то же самое в прозе было бы не менее противно, чем в самом человеке.
Как о том можно судить по травести и по XVII веку, когда бурлескные стихи цвели в Париже, это настроение стремится представить смешным не столько предмет, сколько себя самого, тогда как ирония меняет ситуацию на противоположную. В некоторых новых произведениях, например в «Бурлесках» Боде, а еще ярче — в «Ироде пред Вифлеемом» {3}, мерцает среди опускающихся за горизонт знаков поэтического более высокий свет, чувство всеобщего, тогда как прежние создания — Блумауэра и других — это топкие низкие берега, илистые, вязкие, хотя и пропитанные солью.
Одна и та же причина требует, чтобы бурлеск был в стихах и чтобы его играли, если уж он явится в неподобающей ему драматической форме, не люди, а марионетки. Та лирическая тронутость, что легко проносится перед фантазией в «Бурлесках» Боде, не притязая ни на что высшее, мучает нас своей неестественностью, представая в плотном обличье живого существа; кукла для спектакля самого низкого — то самое, что древняя маска для спектакля самого возвышенного: в театре древних индивидуальный живой облик слишком мал для фантазии, полной божественных образов, в бурлескном театре — он же слишком хорош для фантазии, ничтожащей сущее.
Комической и низко-комической поэзии присуща та особенная черта, что она чаще всего прибегает к словам и выражениям двоякого рода, — во-первых, к иноземным, во-вторых, к самым всеобщим. Почему иностранщина смешнее всего? Почему и нас самих делает она смешными и превращает в почетных граждан всех государств на свете и в приемных сыновей всех народов, особливо народа галльского? Ведь даже суровое латинское слово делается смешным, если прибавить к нему немецкое окончание! Французские слова с немецким окончанием всегда обозначают нечто презренное (peuple — Pobel), — отчасти объясняется это всенародной ненавистью [181] к прежнему режиму княжеской «репрезентации», когда немецкие государи были чем-то вроде вице-королей и missi regii {4} Людовика XIV, отчасти же тем, что тогдашнее придворное и ученое смешение языков («флаттировать», «шармировать», «пассировать») сошло в народ и, стало быть, и для нас самих остается источником низменной манеры говорить. Латинские слова уважаются и превозносятся, — следовательно, они и предпочитаются бурлеском по контрасту. Греческие даже и в эпосе допускаются ко двору, и допускаются даже латинские, если они не обзавелись немецким окончанием.
Комический ключ, источник кипучий и самый светлый, — отсюда черпал Виланд, удачно поливавший свои комические насаждения, — вот кладезь выражений всеобщих — общераспространенных до пошлости.
Фразы — ими немец богат — прикрывают пошлое всеобщностью и никогда не выражают комическое слишком конкретно и вещественно, они куда как превосходят комически-конкретные нижненемецкие слова, о которых Милиус и другие давно уже шумят, будто они невесть какие «юмористические». Уж не говоря о том, что с равным правом можно было бы указать и на слова остроумные и даже на элегические и трагические, как раз юмору и даже бурлеску с его прихотливостью претит излишне громко заявлять о своей комичности.
Не возьму в руки книги, на титульном листе которой написано: «надорвешься от хохота», «до смерти смешное» и т. д. Чем чаще попадаются в комическом сочинении слова «смеющийся», «смешной», «юмористический», тем меньше отличается этими качествами сочинение; точно так же произведение серьезное частым употреблением слов «трогательный», «удивительный», «судьба», «чудовищный» лишь обещает нам эффект, но отнюдь его не производит.
Второй отдел
Программа девятая. Об остроумии
Каждый из нас, еще не будучи оттого человеком тщеславным, вполне может говорить, что он разумен и рассудителен, что он человек с фантазией, чувством, вкусом; но никто не смеет говорить о себе, что он — остроумен; точно так же можно признавать за собой силу, здоровье, гибкость тела, — но не красоту. Причины одни: остроумие и красота как таковые уже совершенства, независимо от степени; а разумность, фантазия — и крепость тела и т. д. — выделяют среди всех лишь того, кто обладает ими в необычной степени; во-вторых, остроумие и красота — это Силы и Празднества общества (что прокует остроумия и красоты остроумному пустыннику и прекрасной отшельнице?); но нельзя самому себе, словно собственный вестник, нести весть о своих победах в обществе — по пути непременно будешь побит камнями.
Что же такое остроумие? {1} Во всяком случае, не та сила, что справится со своим собственным описанием. Против прежнего определения можно возражать — будто это способность отыскивать сходство между всеми далекими друг от друга вещами или понятиями. И «далекое» здесь не ясно, и «сходство» не верно. Ибо отдаленное сходство, если перевести этот образ на сухой язык, есть несходство, то есть противоречие; если же оно значит сходство слабое или мнимое, то это неправильно: сходство как таковое извечно допускает подлинное тождество, пусть не всех частей, тождество же как таковое не допускает степеней и видимости [182]. То же справедливо о несходстве, только в обратном смысле.