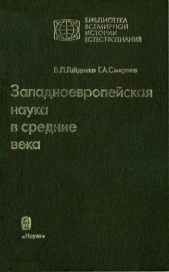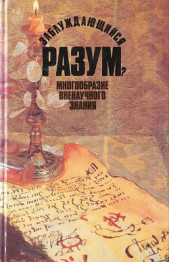Конец науки: Взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки

Конец науки: Взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки читать книгу онлайн
Есть ли границы познания? Возможен ли конец науки? Самые интересные научные теории последних двадцати лет, удивительный диапазон воззрений крупнейших исследователей конца XX века представляет читателю американский ученый и писатель Джон Хорган, объединивший в своей книге тонкий анализ потрясающих открытий и ярких, характерных свойств личности ученых, подаривших эти открытия миру.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Уилсон все еще был уверен, что социобиология в конце концов вберет в себя не только общественные науки, но и философию. В период, когда произошла наша встреча, он писал книгу, предварительно названную «Естественная философия» (Natural Philosophy), о том, как открытия социобиологии помогут решить политические и нравственные вопросы. Он собирался доказывать, что религиозные догматы могут и должны быть «эмпирически протестированы» и отвергнуты, если они несовместимы с научными истинами. Он предлагал, например, чтобы Католическая Церковь исследовала, вступает ли запрещение ею абортов — догма, которая делает вклад в перенаселение, — в конфликт с гораздо более нравственной целью сохранения всего биоразнообразия Земли. Пока Уилсон говорил, я вспомнил замечание одного коллеги о том, что Уилсон соединяет великий ум и ученость, как ни парадоксально, с наивностью, почти с инфантилизмом.
Даже те эволюционные биологи, которые восхищаются попытками Уилсона заложить фундамент детальной теории человеческой природы, сомневаются, будет ли иметь успех такое предприятие. Докинс, например, порицал «саму собой разумеющуюся враждебность» по отношению к социобиологии, выраженную Стивеном Гоулдом и другими склоняющимися влево учеными.
— Я думаю, что к Уилсону отнеслись ужасно, даже его коллеги по Гарварду, — сказал Докинс. — Так что если будут считать, кто за кого, то я позволю себе встать на сторону Уилсона.
Тем не менее Докинс не был уверен так, как Уилсон, в том, что «беспорядок человеческой жизни» может быть полностью понят наукой.
— Объяснять социобиологию — это как если бы использовать науку для объяснения или предсказывания точного курса молекулы воды, когда она идет по Ниагарскому водопаду. Вы не можете этого сделать, но вовсе не потому, что это фундаментально сложно. Это очень-очень запутано.
Я подозреваю, что сам Уилсон может сомневаться, станет ли социобиология такой всемогущей, как он когда-то верил. В конце «Социобиологии» он намекает, что область в конце концов придет к полной, окончательной теории человеческой природы.
«Чтобы бесконечно поддерживать виды, — писал Уилсон, — нам приходится идти к полному познанию, на уровне нейтронов и генов. Когда мы продвинемся до того, чтобы объяснить себя этими терминами, и общественные науки придут к полному расцвету, принять результат будет довольно сложно». Он завершает книгу цитатой из Камю:
«Во Вселенной, лишенной иллюзий и света, человек чувствует себя чужим, пришельцем. И это неизлечимо, так как он лишен воспоминаний о потерянном доме или надежды на землю обетованную».
Когда я вспомнил эту мрачную заключительную часть, Уилсон признал, что заканчивал «Социобиологию», находясь в легкой депрессии.
— Я думал, что через некоторое время, когда мы будем все больше и больше узнавать о том, откуда мы появились и почему мы делаем то, что делаем, несколько снизится наше преувеличенное представление о самих себе и наша надежда на бесконечный рост в будущем. Уилсон также верил, что такая теория приведет к концу биологии, дисциплины, которой он всю жизнь отдавал предпочтение.
— Но затем я переубедил себя, — сказал он.
Уилсон решил, что человеческий разум, который все еще формируется комплексным взаимодействием между культурой и генами, отодвигает границы науки до бесконечности.
— Я увидел, что здесь лежит огромная, не нанесенная на карту область науки и человеческой истории, которую мы можем исследовать без границ, — вспоминал он. — Это развеселило меня.
Уилсон разобрался со своей депрессией, фактически признав, что его критики были правы: наука не может объяснить все зигзаги человеческой мысли и культуры. Не может быть полнойтеории человеческой природы, теории способной ответить на все вопросы о нас самих, которые у нас есть.
Но насколько революционна социобиология? Не очень, как говорит сам Уилсон. Несмотря на всю свою созидательность и амбициозность, Уилсон — довольно консервативный дарвинист. Это стало ясно, когда я спросил его о концепции, называемой биофилия, которая утверждает, что человеческая близость с природой, по крайней мере ее определенные аспекты, является врожденной, результатом естественного отбора. Биофилия представляет попытки Уилсона найти нечто общее между двумя его великими страстями — социобиологией и биоразнообразием. Уилсон написал монографию по биофилии, опубликованную в 1984 году, а позднее редактировал сборник эссе на эту тему, куда вошли и его работы. Во время моей беседы с Уилсоном я допустил ошибку, заметив, что биофилия напоминает мне «Гею», потому что каждая идея пробуждает альтруизм, охватывающий все проявления жизни, а не просто родственников человека или даже свой вид.
— На самом деле нет, — ответил Уилсон так резко, что я опешил. — Биофилия не устанавливает существование какого-то фосфоресцентного альтруизма в воздухе. — Уилсон фыркнул. — У меня очень суровый механистический взгляд на природу человека, — сказал он. — Наше беспокойство за другие организмы — это в большой степени результат дарвиновского естественного отбора.
Биофилия развилась, продолжал Уилсон, не для блага всей жизни, а для блага отдельных людей.
— Мой взгляд строго антропоцентричный, и основывается он на том, что я вижу, понимаю и знаю об эволюции.
Я спросил Уилсона, согласен ли он со своим коллегой по Гарварду Эрнстом Майром в том, что современная биология была сведена до решения загадок, которые лишь усилят превалирующую парадигму неодарвинизма [104]. Уилсон ухмыльнулся.
— Зафиксируйте константы на очередном знаке после запятой, — сказал он, намекая на цитату, которая помогла создать легенду о самодовольных физиках XIX столетия. — Да, мы это слышали. — Но слегка по издевавшись над взглядом Майра на завершенность, Уилсон затем согласился с ним. — Мы не собираемся сбрасывать с трона эволюцию путем естественного от бора или наше базовое понимание видообразования, — сказал Уилсон. — Так что я тоже скептически отношусь к тому, что нам предстоит пройти через какие-либо революционные изменения, касающиеся эволюции и биологического разнообразия на уровне видов.
Еще предстоит много узнать об эмбриональном развитии, о взаимодействии между человеческой биологией и культурой, об экологии и других комплексных системах. Но базовые правила биологии, утверждал Уилсон, «начинают вставать на место, навсегда, как я могу судить. Эволюция работает как алгоритм».
Уилсон мог бы добавить, что пугающие нравственные и философские намеки дарвиновской теории были представлены давно. В книге «Происхождение человека и половой отбор» (1871) Дарвин отмечал, что если люди появились как пчелы, то «вряд ли можно сомневаться в том, что наши незамужние женщины будут, как рабочие пчелы, считать священной обязанностью убивать своих братьев, а матери будут стремиться убить своих способных к размножению дочерей; и никто и не подумает вмешаться». Другими словами, мы, люди, — животные, но естественный отбор сформировал не только наши тела, но и нашу веру, наше фундаментальное чувство того, что правильно, а что нет. Один отчаявшийся викторианский рецензент «Происхождения человека» жалуется в «Эдинбург Ревью»: «Если эти взгляды правильные, неизбежна революция мысли, которая потрясет общество до основания, разрушив неприкосновенность сознания и религиозное чувство». Эта революция произошла давно. В конце XIX столетия Ницше объявил, что нет божественных обоснований человеческой нравственности: Бог мертв. И не нужна была социобиология, чтобы сказать нам это.
Несколько слов от Наума Хомского
Один из самых интригующих критиков социобиологии и других дарвинистских подходов к общественным наукам — Наум Хомский (Noam Chomsky), который одновременно является и лингвистом, и одним из самых бескомпромиссных общественных критиков в Америке. Впервые я увидел Хомского во плоти, когда он выступал с лекцией о практике работы современных профсоюзов. Это жилистый человек, слегка сутулящийся, как и все, кто очень много читает. На нем были очки в металлической оправе, теннисные туфли на резиновой подошве, комбинезон из прочной хлопчатобумажной ткани и рубашка с открытым воротом. Если бы не морщины на лице и не седина в довольно длинных волосах, он сошел бы за студента колледжа, который скорее предпочтет обсудить Гегеля, а не потягивать пиво на студенческих вечеринках.