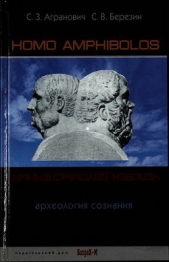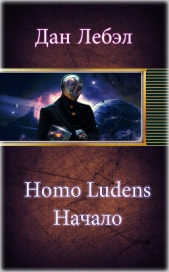Homo Ludens

Homo Ludens читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В любом облике, от чисто сакрального до чисто литературного, от Пуруши в Ведах до прелестных персонажей The Rape of the Lock [Похищения локона]8*, персонификация остается чрезвычайно важной формой выражения человеческого духа и вместе с тем одновременно игровой функцией. Да и в современной культуре персонификация ни в коем случае не сводится к чисто искусственному и произвольному занятию литературного свойства. Персонификация -- это привычная форма ду
138 Глава VIII
ховной деятельности, из которой мы в нашей повседневной жизни еще вовсе не выросли. Кто не ловил себя снова и снова на том, что вслух и вполне серьезно обращается к какому-нибудь неодушевленному предмету, скажем, к упрямой запонке, чисто по-человечески приписывая ей нежелание повиноваться и осыпая ее упреками за поведение, заслуживающее всяческого осуждения? Но, делая это, мы же не исповедуем веру в запонку как в некое существо или хотя бы идею. Мы входим, хотя не по собственной инициативе, в состояние игры. Если постоянно проявляющаяся духовная склонность смотреть на вещи, с которыми человек соприкасается в своей жизни, как на некие персонажи и в самом деле коренится в игровом поведении, возникает важный вопрос, которого мы едва лишь коснемся. Игровое поведение должно было существовать еще до того, как возникла человеческая культура или способность говорить и выражать себя. Почва для персонифицирующего воображения имелась- уже с самых ранних времен. Этнология и исследование религий научили нас тому, что воплощение в образах животных мира богов и духов является одним из важнейших элементов первобытных или архаических верований. Териоморфное воображение лежит в основе всего того, что мы зовем тотемизмом. Пара прародителей племени суть кенгуру или черепахи. О нем говорит и распространенное во всем мире представление о versipellis, человеке, который принимает на время облик животного, как например оборотень. Об этом же говорят и метаморфозы Зевса ради обладания Европой, Ледой9* и пр., наконец -- контаминация человеческих и звериных форм в египетском пантеоне. Во всех этих случаях мы имеем дело с фантастическим утаиванием человеческого в животном. Не следует ни на мгновение сомневаться в том, что такое священное представление о животном для дикаря совершенно серьезно. Подобно ребенку, он так же слабо проводит границу между человеком и животным. И все же, надевая страшную звериную маску и выступая в виде животного, в глубине души он сознает все это намного лучше ребенка. Единственной интерпретацией, с помощью которой мы, уже-не-совсем-дикари, можем попытаться хоть как-то представить себе его духовное состояние, будет то, что у дикаря духовная сфера игры, как мы видим это и у ребенка, охватывает еще все его существо -- от самых священных волнений до чисто Детского удовольствия. Осмелимся предположить, что териоморфный фактор в культе, мифологии и религиозном учении можно понять лучше всего, если исходить из игрового поведения человека.
Еще более глубокий вопрос, к которому приводит нас рассмотрение персонификации и аллегории, заключается в следующем. Полностью ли Расстались философия и психология нашего времени с таким выразительным средством, как аллегория? Не проникает ли то и дело этот древний прием в терминологию, с помощью которой присваиваются названия душевным состояниям и психическим импульсам? Да и существует ли вообще метафорический, фигуральный язык без аллегории?
139 Homo ludens
Элементы и средства поэзии, вообще говоря, лучше всего постижимы как игровые функции. Зачем располагать слова в соответствии с ритмом, метром и рифмой? Тот, кто говорит, что ради красоты или же в увлеченности, делает не что иное, как переводит вопрос в сферу еще более недоступную. Тот же, кто скажет, что стихи слагают, чтобы участвовать в совместной игре, попадет в самую суть. Размеренное слово возникает только в совместной игре, только там оно обладает своей функцией и своей ценностью, которые утрачивает по мере того, как совместная игра теряет характер культа, торжества или праздника. Рифма фразовый параллелизм, двустишие имеют смысл только в извечных игровых фигурах удара и контрудара, подъема и спада, вопроса и ответа загадки и ее разрешения. В своих истоках они неразрывно связаны с началами пения, музыки и танца, все они включены в изначальную функцию игры. Все, что в поэзии с течением времени получает сознательное признание как неотъемлемые ее качества: красота, магическая сила, причастность священному, -- первоначально все еще подчиняется первородным свойствам игры.
Из основных жанров, которые мы, по бессмертному греческому образцу, различаем в поэзии, лирика в наибольшей степени пребывает в первоначальной сфере игры. Лирику следует брать здесь в очень широком смысле, не только как обозначение жанра как такового, но также как слово, определяющее вообще поэтическое настроение и его выражение, где бы и как бы оно ни проявлялось, -так что все, отмеченное восторгом, по сути попадает в круг лирики. Лирическое начало отстоит дальше всего от логического, ближе всего оно к танцу и к музыке. Лирическим является язык мистических построений, вещаний .оракула, колдовских заклинаний. Поэт испытывает тогда сильнейшее чувство приходящего к нему извне вдохновения. Здесь он наиболее приближается к наивысшей мудрости -но и к бессмыслице. Полный отказ от разумного смысла -- уже характерный признак языка жрецов и оракулов у первобытных народов, языка, порою впадающего в совершеннейшую бессмыслицу. Эмиль Фаге обмолвился как-то о "le grain de sottise necessaire au lyrique moderne" ["необходимой крупице глупости в современной лирике"]. Но это касается не только лириков наших дней: сама сущность лирики состоит в том, что она вырывается за пределы сковываемого логикой разума. Основная черта лирического воображения -- склонность к невероятным преувеличениям. Поэзия не знает жестких орбит. В немыслимо смелых образах фантазия космогонических и мистических загадок Ригведы встречается с образным языком Шекспира, прошедшего через все традиции классицизма и аллегории и все же сохранившего порыв архаического vatis [пророка-сказителя].
Впрочем, склонность, выдумывая непомерные качества или количества, создавать образы, настолько поразительные, насколько это возможно, проявляется не только как исключительно поэтическая функция, в лирической форме. Потребность в поразительном -- типичная функция игры. Она свойственна ребенку, и она заново возвращается к душевно
140 Глава VIII
больным10, так же как она всегда была желанна для тех, кто подвергал литературной обработке мифы или жития святых. В древнеиндийской легенде Чьявана, подвизаясь в аскезе, гаме, прячется в муравейнике, так что видны только горящие угольки его глаз. Вишвамитра тысячу лет стоит на цыпочках10*. Связь игры с невероятными размерами и числами объясняет немалую часть представлений о великанах и карликах, от мифических персонажей до Гулливера. Тор и его спутники находят в необъятной спальне боковой покой, где и проводят ночь. Наутро оказывается, что это было не что иное, как большой палец рукавицы великана Скрюмира11. Стремление поразить безграничным преувеличением или путаницей величин и размеров никогда не следует, как мне кажется, принимать слишком всерьез, независимо от того, встречаем ли мы все это в мифах, образующих составную часть системы верований, или же в порождениях чисто литературной либо подлинно детской фантазии. Во всех этих случаях мы имеем дело с тем же самым влечением к играм духа. Веру архаического человека в мифы, которые творит его дух, мы все еще слишком часто невольно представляем себе в соответствии с критериями наших нынешних научных, философских или догматических убеждений. Полушутливый элемент неотделим от настоящего мифа. Здесь всегда берет слово та "ошеломляющая доля поэзии", о которой говорит Платон12. Потребность в поразительном, выходящем за любые пределы -- вот что в значительной степени объясняет появление мифологических образов.
Если поэзия -- в широком смысле первичного своего понятия, греческого поэзис -- и восходит вновь и вновь к сфере игры, то осознание ее по сути игрового характера сохраняется не во всем. Эпос не ассоциируется с игрой, как только его больше не декламируют на общественных празднествах и он служит только для чтения. Также и лирику едва ли воспринимают в виде игровой функции, когда она теряет свою связь с музыкой. Только театральное представление, с присущим ему неизменным свойством быть действием, удерживает прочный союз с игрой. Язык также отражает эту тесную связь, в особенности латынь и языки, черпающие из источника Лациума11*. Драма называется в них игрой, ее играют. Вызывает удивление, хотя это и понятно в свете уже сказанного ранее13, что как раз у греков, создателей драмы во всем ее совершенстве, слово игра не применяется ни по отношению к театральному представлению, ни по отношению к зрелищу вообще. Тот факт, что греки не выработали слова, объемлющего всю область игры, уже обсуждался выше. В известном смысле это следует понимать так, что жизнь эллинского общества во всех ее проявлениях была настолько пронизывающе глубоко "настроена" на игру, что игровой элемент едва ли входил в сознание как нечто особенное.