Открытость бездне. Встречи с Достоевским
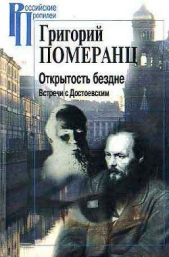
Открытость бездне. Встречи с Достоевским читать книгу онлайн
Творчество Достоевского постигается в свете его исповедания веры: «Если бы как-нибудь оказалось... что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины...» (вне любой философской и религиозной идеи, вне любого мировоззрения). Автор исследует, как этот внутренний свет пробивается сквозь «точки безумия» героя Достоевского, в колебаниях между «идеалом Мадонны» и «идеалом содомским», – и пытается понять внутренний строй единого ненаписанного романа («Жития великого грешника»), отражением которого были пять написанных великих романов, начиная с «Преступления и наказания». Полемические гиперболы Достоевского связываются со становлением его стиля. Прослеживается, как вспышки ксенофобии снимаются в порывах к всемирной отзывчивости, к планете без ненависти («Сон смешного человека»).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отвращение к красноречию, к риторике определяет отношение Достоевского и Толстого к ряду вещей, которые средний образованный человек воспринимает по содержанию, по общественному смыслу, не обращая большого внимания на форму. Например, почему оба писателя подозрительно и прямо враждебно отнеслись к суду присяжных? Неужели им больше нравился дореформенный суд? Не нравился, конечно, но не раздражал. А суд присяжных раздражает стилизованным красноречием, без которого невозможен состязательный процесс. Режет ухо риторика обвинения и риторика защиты. Так же как резали ухо условности парламентского красноречия. Оба величайших русских писателя скорее могли понять анархию, бунт, преступление, азартную игру.
Это отношение к красноречию, к изящной осанке, к стилизованному слову и жесту очень устойчиво в России и всплывает даже в наши дни, после всех исторических испытаний.
В замечательной книге С. С. Аверинцева «Поэтика ранневизантийской литературы» вся вторая глава – развитие пушкинской темы из Пиндемонте. Я позволю себе процитировать несколько строк: «В полисные времена греки привыкли говорить о подданных персидской державы как о битых холопах; мудрость Востока – это мудрость битых; но бывают времена, когда, по пословице, за битого двух небитых дают. На пространствах старых ближневосточных деспотий был накоплен такой опыт нравственного поведения в условиях укоренившейся политической несвободы, который и не снился греко-римскому миру...»; «Библейская литературная традиция укоренена в... опыте, который никогда не знал ни завоеваний, ни иллюзий полисной свободы» [59].
В этой характеристике (лексика которой с неожиданной для С. С. Аверинцева публицистичностью отсылает нас к России: «битые холопы» – надо бы рабы; «за битого двух небитых дают») затушевано то, что сближает Афины и Иерусалим, – уважение к законам и умение манипулировать законами. Иов, при всей подлинности своей боли, красноречив, как опытный истец в споре с ответчиком: он не менее риторичен, чем Лир. У него другая риторика, но риторика. А русская культура, я бы сказал, не юридична и не риторична (это связано). Очень многие простые русские люди выражают свои чувства, как Аким, – не столько словами, сколько интонациями. Повторяется одно какое-то словцо, почти лишенное прямого смысла, и на него одеваются, как на манекен, самые различные интонации. Достоевский посвятил этому главку в «Дневнике писателя». Как шли перед ним мастеровые и переговаривались одним коротеньким словцом, и все, что им хотелось высказать, они высказали, целую гамму чувств, совершенно не прибегая к искусству красноречия. И величайший мастер русского слова с восхищением их слушал. Он ведь тоже самые заветные, самые сокровенные свои мысли оставлял в семантическом поле слова, вне его ядра, вне прямого высказывания.
Однако если жестко поставить вопрос, к какому корню европейской культуры Достоевский ближе, к библейскому или эллинскому, то, конечно, к библейскому. Я сравнивал романы Достоевского с бедным Лазарем рядом с богатым Лазарем. И вот что пишет С. С. Аверинцев о стиле еврейских пророков: «Выявленное в Библии восприятие человека не менее телесно, чем античное, но только тело для него не осанка, а боль, не жест, а трепет, не объемная пластика мускулов, а уязвляемые «потаенности недр»; это тело не созерцаемо извне, но восчувствовано изнутри, и его образ слагается не из впечатлений глаза, а из вибраций человеческого «нутра». Это образ страждущего тела, терзаемого тела, в котором, однако, живет такая «кровная», «чревная», «сердечная» теплота интимности, которая чужда статуарно выставляющему себя напоказ телу эллинского атлета» [60].
Мне кажется, не только Достоевский, а вся древняя Русь ближе к Библии, чем к этому эллинскому атлету. Просто потому, что русский книжник (Аввакум, например) читал Библию, и только Библию, без всякого противовеса в Платоне или Лукреции. Библейский пласт вошел в русскую культуру, воспринимался как русский. «Почто побил сильных в Израиле?» – писал Грозному князь Курбский... И в слоге Аввакума чувствуется его библейский тезка.
Когда Петр вталкивал Россию в Европу, он вряд ли сознавал, что ставит перед страной две очень трудные задачи. Во-первых, вступить во владение наследством античной цивилизации, от которой древняя Русь была отделена языковым барьером, во-вторых, сделать это не на абстрактно-европейский манер, а на какой-то особый русский. Готовые европейские обороты, приемы, формы не вполне годились просто потому, что все глубины культуры Запада – национальные: французские, немецкие и т. п.; я об этом уже говорил. Известное развитие национального красноречия входило в обязательную программу, но надо было создать русское красноречие. А Московская Русь скорее антикрасноречива. То есть надо было создать красноречие в форме антикрасноречия, риторику как антириторику.
Русского дворянина одели в европейское платье и выучили говорить по-французски, но душа европейского красноречия осталась ему чуждой. В Европе красноречие связано с диспутами в университетах и судебными прениями, с Залом для игры в мяч и штурмом Бастилии. Корни красноречия уходят в античный полис, где всякое право приходилось доказывать. Некоторые историки математики интерпретируют как прикладную риторику даже возникшее в Греции доказательство теорем. Египтяне интуитивно выводили формулы и использовали их в своем опыте, но никогда не доказывали: старшие не считали нужным что-либо доказывать, а младшие не смели от них требовать доказательств. Только рядом с Ареопагом возможен был Эвклид [61].
Расцвет красноречия связан с республикой. Демосфен погиб, защищая свободу Афин; Цицерон стал жертвой проскрипций. В жизни средневекового Запада красноречие сперва, в темные века, потеряло почву, но традиции – великое дело. Семена красноречия снова дали ростки – в университетах, в вольных городах. Даже канонизация не обходилась без условностей красноречия. Один клирик брал на себя роль адвоката дьявола и оспаривал достоинство будущего святого, другой выступал в роли адвоката ангелов. В России этого не было потому же, почему не было философии: из-за незнания древних языков. В Новгороде непременно должно было быть какое-то митинговое красноречие, но оно не попало в письменность, не стало высокой культурной ценностью, ценимой ради самой ее красоты, хотя бы и без пользы, и погибло без следа. А в Европе, как раз тогда, когда Новгород покорился Москве, началось возрождение древности. Ренессанс упивался красноречием; и никому не казалось странным, что Ромео произносит речь о любви, Лир – о своем отчаянии. Для москвитянина это звучало бы чрезвычайно фальшиво. И для Льва Толстого, не обладавшего «всемирной отзывчивостью», это невыносимо фальшиво.
В жизни Московской Руси красноречие было так же не нужно, как математические доказательства египтянам. Русская правда – подлинная. Буквальный смысл слова «подлинная» – крик признания. В позднейшем языке ассоциации с разбойным приказом отпали, но подлинная поэзия и подлинная нежность и сейчас исключают риторику, красивость, блеск слов. После Петра, по европейскому образцу, было введено преподавание элоквенции; но изящество речи не ценилось, не давало оратору охранной грамоты. Когда профессор элоквенции Тредиаковский не представил вовремя оду, его побили палками. Не помню, до или после экзекуции Тредиаковский написал:
Плохие стихи – но замечательные как один из первых манифестов западничества, одна из первых попыток опереться на западные нравы, защищая свою русскую спину. Народной культуре эта попытка чужда. Битый холоп мог внушить к себе уважение, но не с помощью красноречия. Образцы русской подлинности, невольно врезавшейся в память и запоминавшейся, – слова стрельца Петру, загородившему дорогу на плаху: «Посторонись, царь, я здесь лягу». Или молчание Васьки Шибанова. Единственная форма риторики, вошедшая в культуру древней Руси, – церковная проповедь. Курбский пытался секуляризовать ее стиль в политическом памфлете. Иван попрекнул красноречивого князя молчанием его раба. Достоевский считал, что Иван устыдился Шибанова. Я в этом не уверен. Но, во всяком случае, он молчание Васьки Шибанова почувствовал. Молчание было выразительнее слова. Вот национальная почва антикрасноречия Достоевского и Толстого.


























