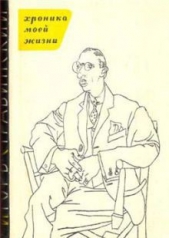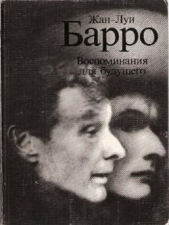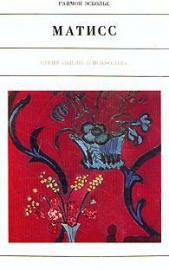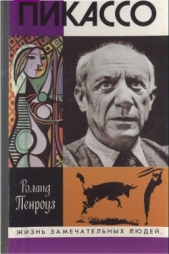Диалоги Воспоминания Размышления
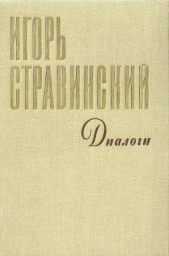
Диалоги Воспоминания Размышления читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Петрушка
Р. К. Не припомните лй вы начало вашей работы над «Петрушкой»?
г И. С. В конце августа 1910 г. мы переехали в пансион близ Веве, а в’ сентябре в клинику в Лозанне из-за предстоящих родов моей жены. Я тоже жил в клинике, но кроме того снял студию- мансарду напротив, где начал сочинять «Петрушку». 23 сентября я был свидетелем рождения моего младшего сына — синего комочка, свернувшегося в плаценте, подобно какому-то пришельцу из космоса в скафандре. К тому времени я написал большую часть второй картины; это было первым куском, сочиненным мной, так как я помню, что когда через несколько дней меня навестили Дягилев и Нижинский, [119] я смог сыграть им значительную часть этой картины. Как только стало возможно перевезти мою жену, мы поселились в Кларане, где опять же в мансарде в стиле Руссо я сочинил «Русскую» для первой картины. Название «Петрушка» пришло мне в голову однажды во время прогулки по набережной в Кларане.
В октябре мы снова переехали, на этот раз в Болье (Ницца). Остальная часть первой картины, вся третья и большая часть четвертой были написаны там. К концу марта следующего года я на три четверти закончил оркестровую партитуру балета и выслал ее Кусевицкому, который взялся издавать все мои сочинения, переданные ему. О месяцах, проведенных в Болье, я помню мало. Я усиленно работал над «Петрушкой», несмотря на расслабляющее действие почти непрерывно дувшего фена. В декабре я вернулся в Санкт-Петербург для изучения сценария совместно с Бенуа. Это посещение очень меня расстроило. «Жар-птица» радикально изменила мою жизнь, и город, который всего несколько месяцев тому назад я считал самым величественным в мире, теперь показался мне удручающе малым и провинциальным (так ребенок думает о дверной ручке в его комнате как о чем-то большом и значительном, а позднее не может связать этот реальный предмет со своим воспоминанием о нем).
Однажды ночью, после моего возвращения в Болье, мне приснился страшный сон, от которого волосы становились дыбом. Я превратился в горбуна и проснулся с мучительным чувством, что не могу ни стоять, ни даже сидеть прямо. [120] Болезнь получила диагноз межреберной невралгии на почве никотинного отравления. Силы восстанавливались в течение многих месяцев. Из Болье я написал письмо Андрею Римскому-Корсакову с просьбой найти и переслать мне экземпляр русской народной песни, которую я собирался использовать в «Петрушке» (цц. 18, 22, 26—%9, в партиях кларнета и челесты). Он выслал мне эту песню, приладив к ней свои собственные слова, выражавшие вопрос, имею ли я право использовать такой «хлам». Когда «Петрушку» поставили в России, он был осмеян лагерем Римского-Корсакова, в особенности Андреем, который дошел до того, что написал мне враждебное письмо. [121] После этого инцидента я виделся с Андреем всего однажды. Это было в июне 1914 г., когда он приехал в Париж вместе с моим братом Гурием, он — чтобы увидеть дягилевский балет на музыку «Золотого петушка», Гурий — чтобы посмотреть «Соловья». Между прочим, я и Гурия видел тогда в последний раз.
В апреле 1911 г. моя жена с детьми вернулась в Россию, я же присоединился к Дягилеву, Нижинскому, Фокину, Бенуа и Серову в Риме. Они, мои коллеги по работе, были полны энтузиазма по отношению к моей музыке, когда я проиграл её им на рояле (конечно, за исключением Фокина); поощряемый ими, что тогда мне было так необходимо, я написал финал балета. Воскрешение духа Петрушки было идеей моей, а не Бенуа. Бйтональную

С Чаплином в Голливуде

После встречи в Белом доме
Вера де Боссе, Джон Кеннеди, Жаклин Кеннеди, Игорь Стравинский

музыку второй картины я задумал как вызов, бросаемый Петрушкой публике, и я хотел, чтобы диалог труб в конце тоже был бито- нальным и означал бы, чтд его дух продолжает издеваться над ней. Я гордился и продолжаю гордиться этими последними страницами больше, чем любым другим в партитуре (хотя мне по- прежнему нравятся «септимы» в первой картине, «квинты» в четвертой, заключение сцены Арапа и начало первой картины; но «Петрушка», подобно «Жар-птице» и «Весне священной», уже пережил полвека пагубной популярности, и если сегодня он уже не кажется таким свежим, как, например, Пять пьес для оркестра Шёнберга или Шесть оркестровых пьес Веберна, это отчасти объясняется тем, что вещи венцев были сохранены 50-летним пренебрежением). Дягилев хотел, чтобы я заменил последние четыре ноты пиццикато «звуковой ионцовкой» («tonal ending»), как он странно выразился, хотя спустя два месяца, когда «Петрушка» стал одной из наибольших удач Русского балета, он отрекался от этого замечания.
Большой успех «Петрушки» был неожиданным. Мы все опасались, что место, предназначенное ейу в программе, принесет ему гибель; из-за трудностей сценического оформления его пришлось исполнять первым, и все говорили, что в начале программы он не будет иметь успеха. Я боялся также, что французские музыканты (в особенности Равель), с возмущением воспринимавшие всякую критику по адресу русской «Пятерки», воспримут музыку «Петрушки» как именно такую критику (так, в сущности, и было). Тем не менее, успех «Петрушки» сослужил мне службу, поскольку он внушил мне абсолютную уверенность в моем слухе как раз в то время, когда я собирался приступить к сочинению «Весны священной».
На представлении «Петрушки» в театре Шатле меня впервые представили Джакомо Пуччини. Высокий и красивый, но, пожалуй, излишне франтоватый мужчина, он сразу очень хорошо отнесся ко мне. Он говорил Дягилеву и другим, что моя музыка ужасна, но вместе с тем весьма талантлива. Когда после «Весны священной» я лежал в тифу — сначала в гостинице, а потом в больнице в Нейи — Пуччини навестил меня одним из первых; Дягилев, боявшийся заразы, не был у меня ни разу, но оплатил мои счета в больнице; помню также, что зашел Равель и стал плакать — это очень напугало меня. Я беседовал с Дебюсси о музыке Пуччини и помню — между прочим, в опровержение написанной Карнером биографии Пуччини, — что Дебюсси относился к ней с уважением, как и я сам. Пуччини был человеком, способным испытывать привязанность, приветливым и простым в обращении. Он говорил на плохом итальяно-французском языке, а я на плохом русско-французском, но ни это обстоятельство, ни отдаленность наших музыкальных стилей не помешали нашим дружественным отношениям. Мне иногда казалось, что Пуччини наполовину вспомнил соло тубы в «Петрушке», когда писал музыку «Джанни Скикки» (семь тактов перед повторением ц. 78).
Вспоминаю также завтрак у Дебюсси вскоре после премьеры «Петрушки» и делаю это с особым удовольствием. Мы пили шампанское и ели с изысканных приборов. Была там и Шушу, и я заметил, что у нее точно такие же зубы, как у ее отца, похожие на клыки. После завтрака к нам присоединился Эрик Сати, и я сфотографировал обоих французских композиторов вместе, а Сати снял меня вместе с Дебюсси. Дебюсси подарил мне в тот день трость с нашими инициалами на монограмме. Позднее, в период моего выздоровления от тифа, он подарил мне красивый портсигар. Дебюсси был не намного выше меня ростом, но гораздо плотнее. Он говорил низким, спокойным голосом, и концы его фраз часто бывали неразборчивыми — это было к лучшему, так как в них часто содержались скрытые колкости и неожиданные словесные подвохи. В первый раз, когда я посетил его после «Жар-птицы», мы беседовали о романсах Мусоргского и сошлись' на том, что это лучшая музыка из всей созданной Русской школой. Он сказал, что открыл Мусоргского, когда обнаружил некоторые его ноты, лежавшие нетронутыми на рояле г-жи фон Мекк. Ему не нравился Римский, которого он называл «сознательным академистом самого плохого сорта». В то время Дебюсси особенно интересовался японским искусством. Однако у меня создалось впечатление, что он не слишком интересовался музыкальными новшествами; мое появление на музыкальной арене, казалось, шокировало его. Я редко виделся с ним во время войны, и те немногие визиты, которые я нанес ему, были крайне мучительны. Исчезла его тонкая, печальная улыбка, лицо осунулось и стало желтым; нетрудно, было разглядеть в нем будущий труп. Я спросил его, слышал ли он мои Три пьесы для струнного квартета — они только что исполнялись в Париже. Я думал, что ему должны были понравиться последние 20 тактов третьей пьесы, так как они принадлежали к лучшему в моей тогдашней музыке. Однако оказалось, что он не знает этих вещей, и действительно, он почти совсем не слушал новой музыки. В последний раз я видел его за девять месяцев до его смерти. Это был грустный визит, и Париж был тогда серый, тихий, лишенный уличного освещения и движения. Он не упоминал о той пьесе из «В белом и черном», которую написал для меня; получив ее в Морж в конце 1919 г., я был очень тронут и очень обрадован тем, что это такое хорошее сочинение. Я был растроган и когда сочинял Симфонии в память моего старого друга, и если мне позволено сказать, это тоже «хорошее сочинение».