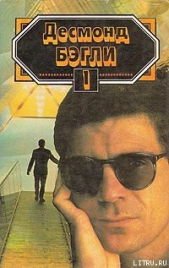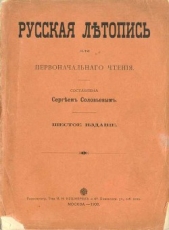Канатоходец: Воспоминания

Канатоходец: Воспоминания читать книгу онлайн
Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.
Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм. В течение 10 лет он был участником движения мистического анархизма в России. В книге освещено учение мистического анархизма, а также последующие события жизни автора: тюрьма, колымский лагерь, ссылка; затем — возвращение в Москву и вторичное вхождение в мир науки, переосмысление пережитого.
Воспоминания носят как философский, так и историографический характер. В приложении помещены протоколы из архивных материалов, раскрывающие мало исследованные до сих пор страницы истории мистического анархизма в России.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей и философией.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Обстановка ужесточилась. Вскоре мы узнали, что вышел приказ: очистить магаданские учреждения от заключенных, осужденных по 58-й статье. Очередной пароход привез вольнонаемную замену. Нам было сказано — обучить их срочно. И мы обучили, честно, как могли.
Для нас готовился этап. Но нескольких человек из инженерного состава все же заменить не смогли. Их судьба сложилась еще трагичнее. За работу в привилегированных условиях они получили дополнительный пятилетний срок. (В дальнейшем эта надбавка имела серьезные последствия.) Нас, оказавшихся на приисках, на так называемых «общих работах», эта «награда» не коснулась, видимо, не было смысла тратить на нас усилия — мы и так в своем большинстве были обречены.
2.
Золотоносные приискиПоследний этап. В горный район — на один из приисков, что недалеко от Оротукана [140]. Нас загружают в кузов открытой машины. Садимся спиной к движению: температура в горах — 50 °C, а может быть, местами и еще ниже. В кузове грузовика заключенный наконец обретает свободу воли — хочет замерзает, хочет выживает.
Для меня в горах всегда есть что-то манящее, чарующее. И здесь белизна снегов, непривычно низкая температура, прозрачность застывшего воздуха придают горному ландшафту сказочность. Жизнь, кажется, приостановилась — замерла в покое и чистоте.
Наша машина задержалась в небольшой лощине, закрытой со всех сторон. И… что это такое: на небе вспыхивает сразу множество солнц. Еще мгновение, и все небо в крестах цвета радуги с солнцами в центре [141]. И воздух, сам воздух начинает блестеть ледяными кристалликами. Кажется, что сама природа, стосковавшаяся за тысячелетия безлюдья, приветствует нас своей красотой. Приветствует сквозь кресты — символ страдания, привносимого насилием.
Ранним утром, еще затемно, подъезжаем к воротам приисковой зоны. Что-то странное: запряженные розвальни, на снегу вроде бы лежат люди, около них суетится охрана. Оказалось — отбирают еще живых среди замерзших. Живым оттирают обмороженные лица.
В бараке первый день обживаемся. Приходит помощник начальника лагеря. Одет в настоящую (меховую) полярную одежду. Рассказывает нам нервно и напряженно об ужасах контрреволюции, всматриваясь в наши лица с недоумением — где же здесь эти злостные «враги народа»? Сказка что-то не сходится с былью. Тогда тема меняется и начинается разъяснение режима. На этом заканчивается воспитательная работа в исправительно-трудовом лагере.
Да, мы поняли, что режим резко ужесточается, что нам придется существовать в полной изоляции от мира. Но вот что удивительно: сквозь эту изоляцию каким-то таинственным способом просачивались отдельные сведения. Они были столь зловещи, что проникали сквозь любые преграды. Они и назывались примечательно — «радиопарашей». Мы узнали, что Особое Совещание теперь уже дает не 5, а 10 лет, что на допросах стали избивать, что расстрелы множатся. Было ясно, что происходящее носит отнюдь не эпизодический характер. Над страной распростерла свои крылья демоническая власть, рассчитанная на долгие годы. Так начинался 1938 год.
На другой день после приезда мы были уже на лесоповале. Эта работа считалась легкой — для начинающих. И все же мне, молодому и физически достаточно крепкому, она поначалу показалась непосильной [142]. Двенадцать часов непрестанной физической нагрузки без должной сноровки, на крепком колымском морозе и при скудном питании. Норму не выполняю. А в следующем месяце надо будет работать уже в забое, со штрафным пайком — 400 граммов хлеба в сутки и почти никакого приварка.
Забой. В зимнее время это вскрытие «торфов» — пустой наносной породы, под которой находится золотоносный слой [143], разрабатываемый уже летом.
Техника уборки торфов проста. Вручную — ломами пробивают шурфы; в них закладывается взрывчатка, разрушающая при взрыве плотные слои породы.
Взрывные работы выглядят сказочно. Ранним, еще темным утром нас ведут к забою. Там, вдалеке от нас, как гномы, суетятся взрывальщики с красными фонарями. Сигнал — все разбегаются. И тучи земной пыли и глыб в огненном смерче поднимаются в воздух.
Теперь породу нужно вручную погрузить в большие короба, поставленные на полозья, и оттащить к подъемнику, убирающему породу из забоя.
Работа тяжелая, требующая сноровки и, конечно, хорошего питания. А у меня штрафной паек. Опять не выполняю нормы. В наказание за это я должен отрабатывать лишние часы сверх 12-часовой нормы. Это истощает последние силы. На следующий месяц опять обеспечен штрафной паек. И так не только у меня, но и у большинства из вновь прибывших — ни у кого из них ведь нет еще нужной сноровки. Вокруг умирают: цинга, кишечные расстройства на почве авитаминоза, воспаление легких…
Начинаю понимать, что и моя очередь приближается. Что-то надо делать. Что-то решительное. Но что?!
Иду напролом — отказываюсь выходить на работу. Направляют в карцер. Это маленькая избушка с небольшими нарами. Многие спят прямо на обледенелом полу. Я получаю право быть на нарах, потому что блатарям рассказываю «романы». Да, вспоминаю все, что могу, из классики. Усиливаю приключенческие моменты и сентиментальность.
Выходить на работу продолжаю отказываться. За это полагается избиение, но явно видно, что самим конвойным не по себе. А блатари предупреждают — сказал «НЕТ», значит, держись до конца, иначе убьем [144].
Что же дальше делать? Паек штрафной, место на нарах оплачено рассказами… Чувствую, что сил для жизни остается еще на два-три дня. Надо что-то делать. Но что? Что?!
Утром объявляю голодовку. Это вызов всей системе. За это полагался расстрел. Ну что же — пусть рассудит нас брошенный вызов.
В карцере все замолкают. Ждут — что же будет?
Мне приносят лист бумаги и карандаш — пиши мотивы голодовки.
Я взял и написал все, что знал о лагере, о бессмысленности массовых смертей. Через полчаса вызывают:
— Бери свои рукавицы и хлеб и убирайся отсюда
к…
— Я работать не буду.
— Убирайся, тебе говорят, пока цел, к…
Я убрался, взял штрафную пайку хлеба и пошел к лагерному старосте. Он посмотрел на меня смущенно, выписал еще пайку хлеба, теперь уже не штрафную, и карточку пропитания высокой категории. Я ему про отказ от работы, а он на меня:
— Какого тут черта работа… иди в барак.
Прихожу. В бараке тепло, чисто, заправлены кровати. Кроме дневального, никого нет. Спрашиваю его, что все это значит.
— Не знаю. Больных, наверное, ждем.
И действительно, через несколько дней приводят, а частично и приносят всех «доходяг», не успевших помереть.
Медицинская комиссия. Когда я разделся, врач даже не стал осматривать меня: «Одевайся, иди».
Я испугался, когда увидел себя: не тело — скелет.
Для нас устроили двухмесячный больничный режим с существенно улучшенным антицинготным питанием. Представьте себе: отдых в концлагере!
Произошло же вот что: утром в день объявления моей голодовки в лагерь приехал следователь с целью выяснить, куда подевались заключенные. Весна — нужно готовить к промывке золото, а лагерь обезлюдел.
Начальник лагеря докладывает следователю: «Контрреволюционная сволочь. Не хотят работать…»
И показывает мое заявление о голодовке. Следователь сверху пишет резолюцию: «Арестовать начальника лагеря по представленным материалам». Его, как мне говорили, расстреляли. Через некоторое время был расстрелян и Гаранин — один из высших общелагерных начальников Колымы. Расстрелян как японский шпион — это нелепая формулировка, чтобы концы в воду.
Да, лагеря имели двойную цель: с одной стороны, производить то, что крайне нужно было для страны, с другой — уничтожать и истреблять [145] тех, кто это производит. Это балансирование, видимо, и рассматривалось как внедрение гегелевской диалектики в жизнь.