Человек против мифов
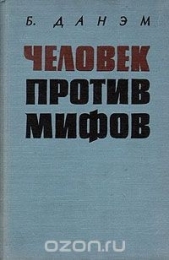
Человек против мифов читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вдобавок ко всему богатые покупатели проявили в себе качество, которое Мэтью Арнольд назвал филистерством. В течение десятилетий они ни в малой мере не увлекались пестованием новых талантов. Когда они вливали свое богатство, скажем, в живопись, это делалось с целью – так великолепно описанной Вебленом – показать, какими громадными деньгами они располагают. Ради этого они собирали старых мастеров. Не особенно блеснешь богатством, потратив тысячу долларов на какую-нибудь современную картину, но можно показать свое богатство, потратив, скажем, 50 тыс. на полотно Рембрандта.
Живописцев эти обстоятельства затронули больше, чем других художников. Тем не менее повсеместным результатом было утверждение во всех искусствах традиции бунта и экспериментаторства. С изобретением фотографии окончательно отпало документальное применение живописи, и старые формы этого искусства изошли в академическом бесплодии. Так в момент, казалось бы, самого горького рабства забрезжило новое и неожиданное избавление. Живописцы смогли изображать мир ради игры форм или ради той же игры форм и вообще не изображать мир. Музыканты завладели правом экспериментировать с целотонной гаммой или атональностью. Поэты, совершив скачок назад к Коли, начали находить небывалый смысл в темных и высокопарных изысканностях.
В искусстве практика порождает теорию; новая техника вскоре оказывается матерью новой эстетики. Ранние романтики XIX в. пытались заслужить место в обществе, предлагая свои уязвленные души в жертву за человечество. К концу века художники перевернули все наоборот: они отреклись от окружающего их мира, они ушли (не без помощи Ницше) за пределы нравственности и пригласили человечество пострадать за них. Немножко бессердечно, но ведь в конце концов это были гордые, независимые люди блестящих возможностей. От таких людей нечего ожидать, что они полюбят свои цепи.
О новой эпохе возвестил неким подобием Манифеста об освобождении "рабов" итальянский философ Бенедетто Кроче. Кроче вознамерился показать, что искусство не имеет отношения к правилам или нормам, не имеет отношения к этике, не имеет отношения к пользе. Все это, сказал он, пустые формулы. Выражаешь в словах, красках, музыкальных звуках то, что, так сказать, у тебя на уме. Теория пришлась как нельзя более кстати, и ее приветствовали восторгами, достойными лучшего применения. В самом деле, беда академических правил заключалась ведь не в том, что они были правила, а в том, что они были академические, и беда викторианской нравственности была не в нравственности, а в ее викторианском характере. Школа Кроче сделала ту же ошибку, что ее противники: приняла вкусы своего времени и нравственность своего времени за своего рода абсолют.
Манифест, однако, не освободил "рабов" в той мере, в какой надеялись. Если всякое искусство есть выражение, то что делать с художниками, желающими сказать что-то о мире? Что если они хотят выносить социальные суждения вообще или революционные в частности? Никто из последователей Кроче не сможет им помешать. Его теория не запрещает высказывать социальные оценки, она лишь запрещает навязывать художникам такое высказывание как обязательное. Ни один принцип Кроче нельзя истолковать как требование или узаконение полной отрешенности от жизни.
Лакуну заполнили, наконец, в 10-е годы нашего века два англичанина: Клайв Белл и Роджер Фрай. Провозглашая форму единственным объектом эстетического наслаждения, они сумели отмести как иррелевантные все смыслы, все сходства с реальностью и в особенности все интимные личные ассоциации, какие может иметь для нас произведение. Цвет и композиция – единственные ценности в живописи; тема и ее разработка – единственные ценности в музыке. Восхищенный зритель, созерцая эти безличные манипуляции, возносится вместе и над повседневной жизнью, и над рядовым человеком. В противоположном случае, говорит Белл, "я скатываюсь с величественных пиков эстетической экзальтации к уютным холмикам теплой Человечности. Это приятная страна. Никто не должен стыдиться, если ему здесь нравится. И все же человек, хоть раз побывавший на высотах, невольно будет ощущать себя чуточку опущенно в ласковых долинах. И пусть никто не воображает, что, если ему доводилось веселиться в теплых садах и причудливых уголках романтики, он может хотя бы в догадке представить суровые и дух захватывающие экстазы тех, кто вскарабкался на холодные белые пики искусства" [53].
Оглядываясь на десятилетия назад, мы уже не находим, что пики были такими уж холодными, а экстазы – строгими. Но в те дни, когда поэт-имажинист видел свой мир в прожилках драгоценного камня, а художники открывали куб, люди вдохновенно верили, что пространство, наконец, затворило небеса, а геометрия отменила звезды. Действием загадочной силы, которая позволяет абстрактному принципу удовлетворять противоположные конкретные нужды, вера эта заставила подлинно творческих художников пуститься в странствия навстречу удивительным открытиям, снабдив в то же время снобов перманентной гаванью. С одной стороны, Пикассо, отвоевывающий новые миры у неизвестности, а с другой – тот же Белл, пробавляющийся наблюдениями вроде следующего: "Как ни скверны старания эпатировать публику, они все-таки не так скверны, как старания понравиться ей" [54].
Увлечение композицией, так ярко проявившееся во французской живописи, принесло необычайные плоды. Однако реакционеры не замедлили догадаться, что соответствующую эстетическую теорию можно применить и для других целей и что в качестве узкого догматического принципа она сможет заглушить нежеланные голоса. И вот не в первый, думаю, раз работа свободы была искажена в направлении рабства. Во всяком случае, ценное содержание теории теперь может быть спасено только такой художественной практикой, в которой формальная структура и суждение художника сольются настолько тесно, что не потребуется изъятие ни того ни другого.
КРАСОТА, СОДЕРЖАНИЕ И ПОЛЬЗА
Давайте посмотрим, какие бастионы мог бы воздвигнуть человек, из страха перед ненавистным ему протаскиванием суждений желающий защитить ту точку зрения, что никаких социальных идей в искусстве совсем не должно быть. Конечно, "не должно" – выражение двусмысленное. По всей вероятности, наш противник не будет иметь здесь в виду этики, т.е. он не захочет сказать, что такое произведение искусства окажется безнравственным. Он, наверное, будет считать, что такое произведение эстетически неудачно, что социальные суждения исказили или совершенно уничтожили его красоту. Как он сумеет защитить такое воззрение?
Прежде всего, он сможет на манер Белла и Фрая обнести всю эту область крепостной стеной, сказав, что источник эстетического достоинства только в форме, а содержание – отвлекающая и неважная деталь. Не говоря уже о том, как трудно решить, что в любом произведении искусства форма и что содержание, для успеха доказательства заранее требуется уверенность в том, что форма и содержание действительно отделимы. Причем до такой степени, чтобы, во-первых, могли существовать произведения искусства, имеющие форму, но не имеющие никакого содержания, а во-вторых, в произведениях, имеющих то и другое, но тем не менее эстетически удачных, внимание могло ограничиваться формой (источником высокого достоинства) и совершенно отвлекаться от содержания.
Ну что касается первого допущения, мы уже видели, насколько редкими должны быть подобные феномены. Ведь тогда художник должен изощриться так, чтобы не только ничего не сказать открыто, но и каким-то образом обеспечить, чтобы его молчание, в свою очередь, не было понято как полноценное суждение. В самом деле, если человек молчит, когда все от него что-то ожидают, его молчание (или на худой конец незначительность его слов) обязательно покажется значительным. Я не знаю, какое число современных художников писало свои абстракции с целью избежать высказывания суждений, но мне кажется несомненным, что они постоянно учили нас новым способам видения физического мира и тем самым непрестанно высказывали суждения. У некоторых из них, таких, как Леже и Пикассо, суждения эти были совершенно сознательные и крайне убедительные – настолько, что они теперь стали частицей повседневной жизни людей в западном мире. Их невозможно не принять во внимание, если вы вознамеритесь ответить на вопрос: "В чем смысл жизни, какою мы теперь живем?".





















