Черное солнце. Депрессия и меланхолия
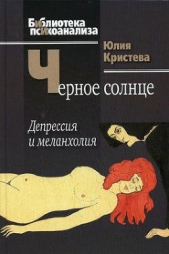
Черное солнце. Депрессия и меланхолия читать книгу онлайн
Книга выдающегося французского психоаналитика, философа и лингвиста Ю. Кристевой посвящена теоретическому и клиническому анализу депрессии и меланхолии. Наряду с магистральной линией психоаналитического исследования ей удается увязать в целостное концептуальное единство историко-философский анализ, символические, мистические и религиозные аллегории, подробный анализ живописи Гольбейна, богословско-теологические искания, поэзию Нерваля, мифические повествования, прозу Достоевского, особенности православного христианства, художественное творчество Дюрас.
Книга будете интересом прочитана не только специалистами-психологами, но и всеми, кто интересуется новейшими течениями в гуманитарных исследованиях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вдовец и поэт, существо звездное и могильное, отождествляемое со смертью или с орфическим победителем, — это лишь некоторые из открываемых нам чтением «El Desdichado» двусмысленностей, которые указывают на раздвоение как центральную фигуру воображаемого у Нерваля.
Меланхолик, никогда не вытесняя тревожные ощущения, возникшие из-за потери объекта (архаического или актуального объекта), устанавливает потерянную Вещь или потерянный объект в себе, идентифицируясь, с одной стороны, с благоприятными, а с другой стороны — с пагубными моментами потери. Здесь мы сталкиваемся с первым условием раздвоения его Я, запускающим целую серию противоречивых идентификаций, которые попытается примирить работа воображаемого. Среди них — тиран-судья и жертва, недостижимый идеал или неизлечимо больной и т. д. Фигуры следуют друг за другом, встречаются друг с другом, преследуют или любят друг друга, заботятся друг о друге и отвергают друг друга. Братья, друзья или враги — двойники могут развить подлинную драматургию гомосексуальности.
Однако, когда один из персонажей будет отождествлен с женским полом потерянного объекта, попытка примирения за пределами разлома приведет к феминизации говорящего или к андрогинии: «Начиная с этого момента, все порой приобретало двойственный облик…». Аврелия, «женщина, которую я когда-то давно любил», мертва. Но «я говорю себе»: «Это ее смерть или это предвестье моей собственной смерти!» Найдя могильный камень Аврелии, повествователь описывает меланхолическое состояние, вызванное в нем известием о ее болезни: «Я думал, что мне самому уже не так долго осталось жить <…> Впрочем, в смерти она принадлежала мне много больше, чем в жизни». Она и он, жизнь и смерть оказываются здесь сущностями, отражающимися друг в друге, абсолютно взаимозаменяемыми.
После упоминания зарождающегося творения, доисторических животных и различных катаклизмов («Повсюду умирал, рыдал или стенал страдающий образ вечной Матери») возникает еще один двойник. Речь идет о восточном принце, лицо которого — это лицо говорящего: «Это был в точности мой облик, в идеале и в увеличении».
Не имея возможности соединиться с Аврелией, повествователь преобразует ее в идеального двойника, на этот раз обладающего мужским полом: «„Мужчина двойственен, — сказал я себе. — В себе я чувствую двух мужчин“». Зритель и актер, говорящий и отвечающий возвращаются, однако, к проективной диалектике добра и зла: «Во всяком случае, другой враждебен мне». Идеализация обращается в преследование и придает «двойной смысл» всему, что слышит повествователь… Любовник Аврелии, поскольку в нем живет злой демон, «злой гений, который занял мое место в мире душ», еще больше впадает в отчаяние. Переполнившись несчастьем, он представляет, что его двойник «должен был жениться на Аврелии» — «и тотчас мной завладел безумный порыв», тогда как все вокруг смеются над его бессилием. Как следствие этого драматического раздвоения, женские крики и иностранные слова — другие признаки раздвоения, на этот раз сексуального и вербального, — разрывают нервалевское сновидение. Встреча в беседке с женщиной, которая оказывается физическим двойником Аврелии, снова погружает его в размышление о том, что он должен умереть, чтобы воссоединиться с ней, словно бы он был alter ego [140]мертвой.
Эпизоды раздвоения связываются друг с другом и изменяются, сходясь каждый раз к прославлению двух фундаментальных фигур, то есть к всемирной Матери, Исиде или Марии, или же к апологии Христа, предельным двойником которого считает себя повествователь: «Моего слуха достиг некий таинственный хор; детские голоса повторяли хором: Христос! Христос! Христос! <…> „Но Христа больше нет“, — сказал я себе». Повествователь нисходит в ад подобно Христу, а текст останавливается на этом образе, словно бы он не был уверен в прощении и воскресении.
Тема прощения и в самом деле оказывается крайне важной на последних страницах «Аврелии»: поэт, виновный в том, что он не оплакивал своих старых родителей так горячо, как он оплакивал «эту женщину», не может надеяться на прощение. Однако, «Прощение было дано Христом и тебе!» Таким образом, стремление к прощению, попытка примкнуть к религии, которая обещает спасение, преследуют эту битву с меланхолией и раздвоением. Столкнувшись с «черным солнцем меланхолии», повествователь Аврелии утверждает «Бог — это солнце». Идет ли речь о воскресительной метаморфозе или же об изнанке той непроницаемой лицевой стороны, которой является «черное солнце»?
В некоторые моменты раздвоение становится «молекулярным» раздроблением, метафорой которого выступают потоки, пропахивающие «день без солнца»: «Я чувствовал, что меня, не причиняя мне страданий, подхватил поток расплавленного метала, и тысячи подобных потоков, чьи оттенки указывали на их химические отличия, пропахивали бороздами лоно земли как сосуды или вены, которые вьются среди долей мозга. Все они текли, извивались и вибрировали, так что у меня появилось ощущение, что эти потоки состояли из живых душ в молекулярном состоянии, различить которые мне не позволила лишь скорость моего путешествия».
Странное прозрение, поразительное знакомство с тем ускоренным смещением, которое скрывается за меланхолическим процессом и притаившимся за ним психозом. Язык этого головокружительного ускорения приобретает комбинаторные, многозначные и тотализирующие черты, которые управляются первичными процессами. Нерваль дает гениальное описание этой символической деятельности, зачастую противящейся представлению, деятельности «нефигуративной», «абстрактной»: «В языке моих спутников встречались таинственные обороты, смысл которых был мне понятен, бесформенные и безжизненные объекты сами собой поддавались исчислению моего рассудка; — я видел, как из комбинаций камней, из фигур углов, щелей или отверстий, из обрывов листьев, из цветов, запахов и звуков возникали доселе неведомые гармонии. Как — спросил я сам себя — мог я так долго существовать вне природы и не отождествляясь с нею? Все живет, все действует, все соответствует друг другу <…> Мир покрывает прозрачная сеть <…>» [141].
Здесь дают о себе знать кабалистические и эзотерические теории «соответствий». Однако процитированный отрывок является также поразительной аллегорий просодического полиморфизма, свойственного тому письму, в котором Нерваль, по всей видимости, предпочтение отдает сети интенсивностей, звуков и значений, а не сообщению некоей однозначной информации. В самом деле, «прозрачная сеть» обозначает сам текст Нерваля, и мы можем истолковать ее в качестве метафоры сублимации — переноса влечений и их объектов в расшатанные и перестроенные знаки, которые наделяют писателя способностью «поучаствовать в собственных радостях и горестях».
Какие бы намеки на масонство и инициацию здесь ни встречались, и, быть может, именно в параллель к ним, письмо Нерваля воскрешает в памяти (как при психоанализе) те формы архаического психического опыта, которого немногим удается достичь посредством собственной осознанной речи. Представляется вполне очевидным, что психотические конфликты Нерваля могли облегчить ему доступ к границам бытия языка и человеческой природы. У Нерваля меланхолия — лишь одна из сторон этих конфликтов, которые могли дойти до шизофренического расщепления. Однако именно меланхолия господствует в нервалевской системе представления — благодаря своему центральному месту в организации и дезорганизации психического пространства, месту на переделе аффекта и смысла, биологии и языка, асимволии и головокружительного быстрого или помраченного означивания. Сотворение неразрешимой просодии или полифонии символов, организованных вокруг «черной точки» или «черного солнца» меланхолии, оказывается, таким образом, противоядием от депрессии, временным спасением.
























