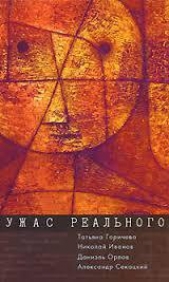От Эдипа к Нарциссу (беседы)

От Эдипа к Нарциссу (беседы) читать книгу онлайн
Книга основана на материалах бесед, происходивших в Санкт-Петербурге на протяжении 1999 и 2000 годов. Участники разговоров стремились размышлять над проблемами современной действительности постольку, поскольку эти проблемы обнаруживают под собой настоятельные философские вопросы. При этом авторы избрали жанр свободной беседы как наиболее аутентичный, на их взгляд, способ философствования, который не вполне оправданно оттеснен современной культурой текста на задний план.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Хотела бы отметить еще один очень важный момент, связанный с обостренным чувством иерархии, присущим сознанию господина, которым обладает всякий подлинный герой. Чем выше место в иерархии, тем больше налагается различных запретов и меньше выбора, подвижности, свободы. Если мы обратимся к индийским брахманам — касте священников, — то увидим, что там действует масса жестких запретов, скажем, они могут жениться только один раз, не могут прикасаться к нечистому, не могут есть мяса, лука и т.д. Зато какие-нибудь шудры, гораздо более низкая каста, могут все, им все позволено. Известно, что властители крайне скованы в своих действиях. Каждый их поступок обставлен цепью условностей и ритуалов, потому что они не обладают персональной судьбой, — в их судьбе сосредоточена судьба всего социума. Можно согласиться с тем, что герой несет в себе чувство иерархии и является аристократом духа в самом глубоком и настоящем смысле этого слова. В таком случае встает проблема связи трагедии с судьбой. Р. Барт в своей работе о трагедии описывает довольно любопытную вещь: в античной трагедии персонажи второго плана (слуги, вестники) непрестанно движутся, а трагический герой стоит на месте. Он будто зажат между горой и морем. У греческой сцены очень узкое пространство. А место героя — это точка симметрии, неподвижный топос, средоточие, в коем достигается равновесие бытия. Подобный принцип симметрии можно встретить в любом великом искусстве. Симметрические структуры присутствуют в иконах, мандалах. В узком пространстве трагедии разыгрывается судьба, постоянно нарушающая симметрию и устойчивость бытия. Если бы не герой, всегда стоящий в средоточии, точка симметрии бы сместилась и мир захлестнул бы хаос, в котором растворились бы все четкие различия, весь порядок иерархии. У Лосева имеется мысль, что судьба — это та часть божественной воли, к которой мы не можем прикоснуться. То есть она находится за краем наших возможностей. Большинство людей считает, что они сами хозяева своей судьбы. Но я думаю, что в конечном счете это неверно. Трагический удар судьбы меняет местами причину и следствие. Поэтому судьбой нельзя управлять, так как мы не обладаем всеведением. Каждый из нас, конечно, ищет свою судьбу, но большинство живет совершенно мимо нее, не попадает в свое невозможное. А следует осознать, что ожидание счастья и полноты бытия — это и есть исток трагического.
А. С.: Я тоже попытаюсь оттолкнуться от категории трагического. В принципе, я согласен с тем, что сказала Татьяна. Действительно, трагическое идет от полноты бытия, включающей в себя не только ожидание счастья, но и весь набор чистых состояний, какими бы они ни были. Это может быть и гнев, и ярость, и радость, и скорбь, и все что угодно. Если уж мы отталкиваемся от изречения Ницше, что «человек прямой чувственности» или, в его определении, «свободный ум» — это тот, кто от чистого сердца говорит жизни «да», то нужно добавить, что он точно так же говорит и «нет». Он отказывается пожимать плечами и довольствоваться невразумительными намеками. И тогда получается странная вещь: возникает коридор принудительности, попадая в который мы больше не выбираем сами свои поступки, потому что уже сказали «да» или «нет». Уже нельзя посмотреть назад или уйти в сторону. Иди и не оборачивайся, а если ты обернулся, то пропал. Там, на выходе, идущего может поджидать смерть, даже неминуемая гибель. Но есть принципиальная разница: встретить ли поджидающую смерть лицом к лицу или, допустим, позорно бежать, или умереть от страха смерти. Герой — тот, кто проходит по этим коридорам до самого конца и, может быть, потом вновь выходит на плато, открывающее веер возможностей, где герой неотличим от первого встречного, вплоть до следующего безоглядного выбора, характеризующего господина. В самом деле, идея судьбы возникает именно здесь — как ряд безальтернативных поступков, скованных в единую цепь.
В этом тоже есть некая странность, ибо судьба — это сверхдетерминированность, превосходящая по своей жесткости любую степень физической причинности. Какой-нибудь электрон, атом или молекула абсолютно предсказуемы в своем «поведении», хотя их, казалось бы, и можно считать эталоном детерминизма. Однако дело в том, что эти простые агенты физических взаимодействий и не пытаются сопротивляться своему «предназначению». А трагический герой, даже сопротивляясь изо всех сил, все равно наталкивается на то же самое следствие, которое одновременно становится круговой причиной. Отсюда проистекает значимость трагедии. В мире трагического кантовские императивы не действуют или становятся предметом горькой усмешки. Но зато вызов героя прерывает сон богов, вовлекая их в новую историю. Присутствие свыше сгущается до уровня первых дней творения, но самое поразительное то, что герой остается самим собой во всех превращениях — в ситуации, когда ни один носитель закона явлений самим собой не остался бы. Поскольку для вещи «протест» попросту означает потерю своей формы, своего имени и превращение в другую вещь.
Судьба, задающая нам именно такую степень принудительности, в то же время позволяет человеку сохранять самотождественность, будь это Эдип еще ничего не знающий, или Эдип уже знающий все. В этом смысле мы можем понять, в чем состоит человеческое достоинство, в умении бесстрашно бросаться в коридоры или колодцы онтологической принудительности. Трагедия безжалостно обходится со случайной данностью жизни, но зато она дарует персональную судьбу, извлекая имя из круговорота повторяющихся имен и сохраняя его как имя героя. Да и если разобраться, сама судьба в нашем понимании и проживании складывается из непрерывного и упорнейшего сопротивления тому, что выпадает на нашу долю. «От судьбы не уйдешь», — так обычно любят говорить те, кто и близко даже не подошел к судьбе. Нужно бросить вызов судьбе, чтобы ее хотя бы обрести. И вот здесь, как мне кажется, возникает проблема перехода между эросом и трагедией. Хотя мы можем, образно выражаясь, сказать, что стрелы Амура или Эрота в совокупности причинили не меньше страданий, чем стрелы Марса, но все же взаимоотношения трагического и того, что мы называем произведением эроса, выглядят достаточно проблематично. Почему? Да хотя бы потому, что когда мы из эроса делаем прилагательное и говорим «эротическое», феномен явным образом теряет часть своей серьезности и, вообще говоря, плохо сопрягается с трагедией. Я целиком разделяю мысль Фуко о том, что когда высокое напряжение эроса исчезает и появляется некая среда эротического, равномерно размазанная по повседневности, когда эротизируется вся сфера символического, то трагическая коллизия Эроса сменяется технической задачей, пусть даже сколь угодно сложной. Этому изначально способствует и образ Эроса или Эрота, греческого лукавого бога неопределенного возраста, который вроде бы более склонен к провокациям, чем к трагедии.
Но если рассуждать дальше, то коллизия эроса, неизменно сохраняющаяся в нашем мире, состоит в том, что его произведения требуют взаимных усилий. Они не получаются сами собой, просто так, на ровном месте. Здесь мы сталкиваемся с моментом так называемого исходного рассогласования чувственности, когда на физиологическом уровне видим, что женская и мужская сексуальность устроены различным образом, а согласованное произведение эроса даже в случае возобновляемого выбора друг друга все равно не является простой вещью, но требует совместного труда любви — начиная от чистой сексуальности, повседневной рутины и вплоть до уровня духовного единства.
Вспоминается переписка Фрейда и Флисса, где в одном из писем Фрейд замечает приблизительно следующее: мне представляется, что если бы была устранена разница между типами мужского и женского оргазма, если бы управление в сфере либидо давалось так же легко, как, скажем, в сфере моторики, то человеческий мир выглядел бы иначе, а может его и не было бы вообще. Действительно, эта принципиальная рассогласованность, являющаяся источником по крайней мере драмы, неудавшейся провокации, а иногда и трагедии, всегда остается. Более того, я смутно подозреваю, что избранность со стороны бога Эроса не предполагает счастливой, безмятежной и безоблачной любви. Полнота ожидания счастья, о которой сказала Татьяна, видимо, не полна, если в ней не обнаруживаются моменты трагического непонимания, неудачи или нестыковки. По-настоящему великая запоминающаяся любовь в этом отношении не может быть счастливой, как это ни странно. Во всяком случае, она не может быть безмятежной и безоблачной. Гоголевские «Старосветские помещики» — вот пример самой утопичной из утопий, зарисовка, возможная только с позиции абсолютного постороннего, хотя нам очень приятно думать подобным образом. Мы, конечно, говорим о трагедии неразделенной любви, или чаще говорим о муке неразделенной любви, однако воистину трагическое, в античном понимании этого слова, возможно лишь если речь идет именно о взаимной любви, которая по каким-то причинам распадается или не может осуществиться. Не знаю, прав я или нет, но мне кажется, что история с Лолитой не является никоим образом трагедией, хотя дело и кончается гибелью героя. Это в лучшем случае драма, фарс, великая провокация, но не трагедия. Зато историю Регины и Кьеркегора можно называть трагической, не говоря уже о шекспировских сюжетах Отелло и Дездемоны или Ромео и Джульетты. Опять же, почему «Ромео и Джульетта» — трагедия? Потому что перед нами совместное произведение эроса, в котором участвуют обе стороны, где аутоэротизм и нарциссизм отступают на второй план перед решимостью выбрать другого. Только тогда возможно трагическое. По этой причине история Иосифа Прекрасного и жены Потифара не является трагедией, ибо перед нами происходит односторонний выбор. Великое произведение любви, которое можно называть «шедевром эроса», если уж существуют шедевры логоса и шедевры Марса, — это произведение, которое в любой момент может обернуться или оборачивается смертью, то есть невозможностью своего дальнейшего проекта. Лишь при наличии подобных обстоятельств можно утверждать, что перед нами трагическая конфигурация эроса. И, быть может, великих произведений эроса в мире ничуть не больше, чем великих произведений логоса. Не исключено даже, что и меньше.