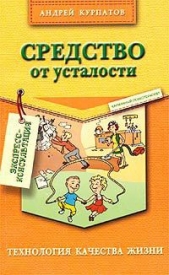Феноменологическое познание

Феноменологическое познание читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А. — Может, Вы и правы. Но в чем все–таки была бы специфика этого курса? Если, смотря на чувственное, я лишь отталкиваюсь к сверхчувственному, то что мне делать в том случае, когда не на что опереться для отталкивания? Знаете, я переживал несколько раз уже эти странные состояния, пытаясь вдуматься в теорию множеств или в мир квантовых — простите, но я вынужден употребить именно это слово, — невообразимостей. Чувствуешь себя как бы оторванным от земли и повисшим в воздухе, где не за что ухватиться, и все же лихорадочно ищешь, за что бы.
Б. — Вы прекрасно описали состояние и, главное, поразительно точно. Так оно и называется: "испытание воздухом". Ухватиться действительно не за что, хотя по инерции прошлого и привыкшие всегда опираться на костыли чувственного, мы продолжаем лихорадочно искать опору. Здесь самое важное, как можно быстрее и решительнее осознать, что мысль находится в совершенно новом измерении реальности, и поэтому ей следовало бы не лихорадить в ностальгии по прежнему опыту, а трезво усваивать новый опыт ориентации. Иначе она задохнется в "невообразимом".
А. — Но в чем же суть этого нового опыта и как он приобретается?
Б. — Странно, Ваш вопрос напоминает мне притчу о том короле, который метался по собственному королевству, крича: "Где король?" Откройте любой учебник математики, и Вы окажетесь в самом средоточии нашей темы. Мысль здесь не нуждается ни в каких чувственных подпорках и вполне опирается на самое себя. Математическая мысль — абсолютно самодостаточна. В этом вся специфика и суть нового опыта.
А, — Предположим, что так. Но когда я открываю математическую книгу и убеждаюсь в самодостаточности ее мыслей, мне достаточно усвоить правила математического мышления, чтобы ориентироваться в этой сфере. Не понимаю, при чем тут специфика нового опыта и что Вы вообще имеете в виду?
Б. — Сказанное Вами относится к грамматике мысли. Я поясню свою мысль примером. С формальной точки зрения любая книга, скажем, вот эта самая "Похвала Глупости", есть совокупность бесконечных комбинаций двух–трех десятков букв алфавита. Разумеется, правила этих комбинаций должны быть усвоены в совершенстве; это — условие грамотности, без которого не дано обойтись ни одному культурному человеку. Но грамотность, согласитесь, не может быть самоцелью; она — только средство к прочтению и пониманию книги. Ведь, читая книгу, читаешь не буквы, а мимо букв, не слова и фразы даже, а мимо слов и фраз, не текст, а контекст. Не спорю, что буквенные комбинации книги указывают и на грамматические правила их образования. Но, ориентируясь только в этом направлении, мы вряд ли когда–нибудь сумеем прочитать и понять саму книгу.
А. — Может, Вы и правы. Однако удачность аналогии не говорит еще ни о чем.
Б. — Вы так думаете? Мне все–таки кажется, что как раз удачность аналогии говорит о многом. Проверьте эвристическую генеалогию наших наук; разве не опираются почти все они на удачные аналогии? А что, если и мир — книга! Почему бы не допустить такую аналогию? Ведь не только Байрон и Галилей сходились в ее признании, но и формалистам она не чужда вовсе. Больше, того, удобна. Правда, они предпочли бы сказать "текст", а не "книга", но это — вопрос вкуса. Как же читается этот "текст" (предположив, что, буквы его суть "явления")? Я напомню Вам одно место из "Пролегомен" Канта, где цель научного познания сводится к чтению явлений по слогам. Конечно, это все–таки лучше, чем читать по буквам. Но и не говорите тогда о научном познании, а говорите, самое большее, о научной ликвидации безграмотности. А мир, между прочим, это не только буквы и слоги; это — стиль, и это, между прочим, — смысл. Усваивая правила математического мышления, Вы одолеваете его грамматику; плохо то, что на этой грамматике и кончается дело, как если бы она и была единственным искомым смыслом.
А. — Охотно верю. Но мы имеем дело с миром мысли и, следовательно, мыслим его. Как же быть тогда с умением видеть?
Б. — Вы все еще исходите из прежних предпосылок, что можно видеть лишь телесно–видимое, тогда как бестелесно–невидимое просто мыслится. Но разве мы не пришли к иному выводу уже в пределах чувственного мира? Разве мы не выясняли, что видим мы собственно идеи в буквально оптическом, а не современно абстрактном смысле слова? Правда, в чувственном мире мы видим их, так сказать, опосредованно, через телесного посредника. Здесь же дело обстоит иначе. Никаких посредников уже не существует, и мысль лишается опоры телесного зрения. Ей остается уповать лишь на себя и учиться видеть непосредственно. Так, мы оказываемся на самом пороге курса, о котором шла речь.
А. — Я хотя и не вполне разделяю оптимистичность Ваших рассуждений и не совсем верю в их реальность, но охотно услышал бы продолжение.
Б. — Приберегите ресурсы Вашей веры для квантовых невообразимостей. Там они Вам больше понадобятся. Здесь же следует не верить, а делать. Или не делать, но тогда и придется выбирать между верой в веру и верой в неверие, ибо неверие, с Вашего позволения, я назвал бы все той же верой, только с отрицательным индексом. Раз попавши в этот круг, Вам придется испытать всю безрадостность участи "Лжеца—Критянина", отданного на съедение логическому Минотавру… Но я продолжу дело. Мысль, которой не за что ухватиться в новом измерении реальности, потому и испытывает шоки, что у нее отсутствует опыт соответствующей ориентации. Ну, совсем как в случае тела мы говорим о клаустрофобии или агорафобии, можно было бы говорить о пневматофобии мысли. Поэтому ей необходимо постепенно привыкать к новым условиям. Опыт начинается уже здесь, в окружающем нас мире, с любой вещи, какой бы она ни была незначительной, даже лучше, если бы она была именно незначительной. Не то за "слонами" невообразимостей мы проглядим "букашек"… Крайне желательно начинать просто с букашек, так как потом именно они и подкладывают нам свиней парадоксов… Но поскольку, как мы уже уяснили, опыт видения сверхчувственного имеет место, хотя и в завуалированной форме, уже здесь, в мире "букашек", то следует лишь приучить себя к следующей установке: в каждом взгляде, брошенном на мир, различать чувственное и сверхчувственное, или, как я назвал это выше, "одно" и "другое". Делать это регулярно, словно бы речь шла о диетических или лечебно–гимнастических предписаниях врача больному организму. Тогда, в недалеком времени, скажутся вполне реальные результаты. Мысль окрепнет и сделается гибче, а, главное, осознает в себе самой некую самостоятельность и автономность. Она должна проникнуться уверенностью в том, что может обойтись без костылей смотрения. Остальное зависит от чисто индивидуальных свойств экспериментатора, при условии, что делать это он должен регулярно, пусть в малых дозах, но каждый день.
А. — И что же это за остальное? Как оно проявится?
Б. — Вы, что же, рассчитываете на то, что я изображу Вам это в фигуре силлогизма! Перенесите Ваш вопрос в сферу логики и подумайте, что из этого выйдет. Некто усваивает курс логики, обучаясь правилам мышления. Другой некто, не обучающийся этим правилам, спрашивает того первого: что же дальше?… Рискну все же ответить на Ваш вопрос в самом общем плане, тем более, что и все сказанное мною было не чем иным, как самым общим планом. Мысль, прошедшая курс нового опыта, изменится в самом своем качестве и в самой субстанции. Ее основным критерием будет уже не "правильность" или "непротиворечивость", а зрячесть, очевидность, точнее, она потому и будет правильной, что будет зрячей. Сама логика найдет свои критерии в созерцательности, интуитивности и вырвет, наконец, злополучную интуицию из–под опеки богемно–иррационалистических наитий. Тем самым, не теряя формальности, она станет содержательной и обнаружит в собственных "основаниях" на этот раз уже осмысленный и преодоленный кризис своей только формальности. Подумаем: что есть только формальность? Она есть, в исходном и конечном пункте, исключительное сведение смысла как такового к форме выражения смысла, т. е. глядя на "одно", она не просто не видит "другого", но и активно отрицает его наличие иначе, чем в "одном". Но это ведь и есть закон тождества, или сведение к пальцу того, на что палец указует. Я думаю, что так называемый "кризис оснований" существовал еще задолго до того, как его осознали, но осознание имело место все еще в круге только формальности, и формалистическому осознанию кризиса недоставало, так сказать, саморефлексии, чтобы понять, что "кризис оснований" был, на деле, кризисом только формально положенных оснований, выйти из которого с помощью только формальных уточнений, все равно, что вытянуть себя из болота за собственный парик. Достаточно ли ясно я выражаюсь? Мысли, погрузившейся в сверхчувственное, влача за собою навыки чувственного опыта, оставалось только одно, чтобы избавиться от шоковых наваждений: оставалось полностью нейтрализовать смысл нового опыта путем сведения его к чисто формалистической комбинаторике. "В начале был Знак" — так сформулирована эта нейтрализация в гильбертовском евангелии от формализма. Кстати, знаете ли Вы, какую остроумную поправку внес сюда Вейль? Он назвал этот знак "знаком на бумаге", из чего мы можем заключить, что формулу Гильберта надо было переиначить: "В начале была Бумага". И дальше: "И Бумага была у Знака, и Бумага была Знак". Никаких противоречий, не так ли? Любопытно, между прочим, что Вейль, которого я упомянул, приблизился к самому порогу… Отвергнув чудовищную математическую тавтологию формалистики, он задался очевиднейшим вопросом: поскольку всякий знак есть знак чего–то, то где же искать это что–то? Второй шаг Вейля тоже заслуживает самого пристального внимания: он утверждает, что математические понятия числа, функции, и т. д. находятся в таком же отношении к реальности (Вы слышите: к реальности), как физические понятия энергии, гравитации и т. д. И лишь с третьим шагом, встав перед вопросом о природе этой реальности, он сорвался в "трансцендентное". Ситуация вышла довольно странной, ибо сами эти физические понятия были настолько математизированы, что потеряли всякую возможность, обратного возвращения к их собственно "физическому" смыслу. Смысл их теперь уже целиком подлежал ведомству математических отношений, так что реально ухватиться воистину было не за что и там, и здесь. Поэтому, между прочим, и нашли весьма прагматическое решение упразднить вопрос о реальности и ограничиться только правилами комбинирования. И что же Вейль? Он предлагает нам верить в математическую реальность — не правда ли весьма занимательный вариант для математика?.. Ну, о вере мы уже говорили. Оставим веру действительно верующим и перестанем разыгрывать буриданов фарс интеллекта, который слишком расслаблен, чтобы знать, и слишком искушен, чтобы чистосердечно верить. Я же кончу на том, с чего начал: нужно учиться видеть.