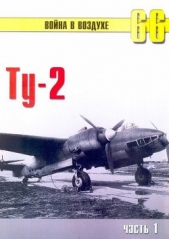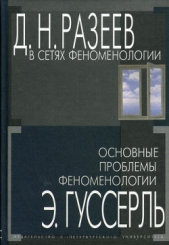Антология реалистической феноменологии

Антология реалистической феноменологии читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Синхронности процессов, делавших из философии враждебную вере, более того, узурпирующую ее, «земную мудрость» (Ренессанс), и все в большей степени превращавших ее в недостойную рабыню и наложницу то одной, то другой отдельной науки (геометрии, механики, психологии), удивляться не следует. Они по своей сути составляют единое целое. Эти процессы лишь точнейшим образом следуют принципу, гласящему: сам разум устроен так, что – как и тот, кому по неотъемлемому праву принадлежит автономия и власть над нижестоящим: и в отношении всей жизни инстинктов, и во всех «применениях» своих законов в рамках чувственного многообразия последовательности явлений, но одновременно надлежит и добровольное и смиренное, самостоятельно осуществляемое подчинение божественному порядку откровения – он непременно вынужден будет гетерономно формироваться снизу в той мере, в какой им отвергается коренящееся в сущности самих вещей условие своего права на полную автономию над нижестоящим – а именно, свое жизненно необходимое, фундированное в добродетели смирения и добровольной готовности к самопожертвованию соединение с богом как с самим предвечным светом (dem Urlichte selbst). Лишь как «добровольная служанка» веры, философия в состоянии сохранять свое положение царицы наук; когда же она осмеливается вести себя как госпожа веры, ей неизбежно суждено стать прислужницей, и даже рабыней и наложницей «наук».
Если я употребляю слова «философия» и «науки» в означающем различные понятия смысле и тем самым строго-настрого исключаю возможность того, что философия как царица наук сама принадлежала бы им в качестве одной из них, являлась бы «некоей наукой» или должна была быть «научной философией», то я хотел бы незамедлительно обосновать такое словоупотребление. Задействованное словоупотребление, как отклоняющееся от общепринятого, должно быть обосновано прежде всего в противовес Эдмунду Гуссерлю, который, несмотря на то что его рациональная идея философии наиболее близка развиваемой здесь, тем не менее однозначно характеризует философию как «науку».
Ибо речь идет здесь не об объективном, но лишь, во всяком случае по сути дела, о терминологическом расхождении. Гуссерль различает – в принципе так же как позже стал это делать и я – объективно очевидное познание сущностей и познание действительности (Realerkenntnis). Последнее остается по сути дела в сфере вероятности. Философия же в своей основополагающей области является основанным на очевидности познанием сущностей. Гуссерль далее отличает философию от дедуктивных наук о, как он их называет, «идеальных предметах» (логика, теория множеств и чистая математика). При этом он видимым образом отдает предпочтение как феноменологии актов вообще, так и феноменологии психического перед вещественной феноменологией и феноменологиями других материальных регионов бытия, например феноменологией природных объектов, – предпочтение, остающееся необоснованным. Однако поскольку Гуссерль требует от философии не только «строгости» (в чем я полностью с ним согласен), но, сверх того, также присваивает ей титул «науки», он изначально вынужден пользоваться термином «наука» в принципиально различных значениях, применяя его и для философии как основанном на очевидности познании сущностей, и для точных формальных наук об идеальных предметах, и, наконец, для всех индуктивных опытных наук. Но так как для обозначения первого мы уже имеем старое почтенное название «философия», непонятно, почему мы должны без какой-либо необходимости дважды использовать одно и то же название. Опасение, что философия, если она не будет отнесена к категории «наука», подпадет под некое иное, аналогичное родовое понятие, будь это искусство или что-либо еще, лишено всякого смысла, ибо отнюдь не все вещи должны «подводиться под понятия»; определенные вещи, являясь скорее независимой областью предметного или областью деятельности, напротив, имеют право отвергнуть подобную категоризацию. Среди этих вещей в первом ряду стоит философия, которая в действительности есть не что иное, как именно философия, обладающая в числе прочего своей собственной – философской – идеей «строгости» и не обязанная руководствоваться особой строгостью науки (называемой в измерительных и вычислительных методах «точностью») как пределом своих мечтаний. Здесь однако имеется исторический подтекст. Я полагаю, Гуссерль использовал для философии то древнегреческое понятие науки, которое по смыслу совпадает с платоновской επιστήμη [124], противопоставляемой Платоном сфере δόξα (т. е. всякого рода правдоподобному знанию). Правда в этом случае философия оказалась бы не просто «одной из» строгих наук, но единственной настоящей наукой, тогда как все остальное в сущности вообще не было бы наукой в наиболее строгом смысле слова. Но нужно принять во внимание, что практическое словоупотребление в ходе столетий не только изменилось, но даже – в силу глубочайших культурно-исторических причин – сменилось на противоположное. Как раз то, что, за исключением формальных наук, Платон называл сферой δόξα, стало олицетворением того, что уже несколько веков почти всеми народами зовется «наукой» или «науками». Я во всяком случае еще не встречал при общении или в книгах никого, кто под словом «наука» подразумевал бы прежде всего не так называемую позитивную науку, а επιστήμη Платона или философию как «строгую науку» в гуссерлевском смысле, которая тем не менее не должна включать в себя всю дедуктивную математику. Является ли целесообразным и исторически обоснованным вновь менять это словоупотребление на противоположное и вновь вводить древнегреческое употребление? Я так не считаю. Для того, чтобы не санкционировать навечно чудовищную двусмысленность, в праве называться наукой пришлось бы отказать даже всем индуктивным опытным наукам, – чего, конечно, вовсе не хотел бы и сам Гуссерль.
Но не только в отношении слов философия и наука имеются расхождения между гуссерлевским и моим словоупотреблением, – еще острее противоречия в отношении слов мировоззрение и философия мировоззрения. Выразительным термином «мировоззрение» обогатил наш язык выдающийся исследователь истории культуры Вильгельм фон Гумбольт, и термин этот означает прежде всего (необязательно осмысленные и познанные посредством рефлексии) имеющиеся фактические формы «взгляда на мир» («Weltanschauens»), а также классификации созерцательных и ценностных данностей социальными общностями (народами, нациями, культурными кругами). Эти «мировоззрения» могут быть обнаружены и исследованы в синтаксисах языков, но также и в религии, этике и т. д. Также и то, что я называю «естественной метафизикой» народов, принадлежит сфере, которая должна охватываться словом «мировоззрение». Под термином «мировоззренческая философия» я понимаю философию как постоянных – «естественных» для человеческого рода —, так и особых изменяющихся «воззрений» – весьма важную дисциплину, которую Дильтей в последнее время успешно старался развить в качестве философского основания наук о духе. Гуссерль же называет мировоззренческой философией как раз то, что я с намного большим историческим основанием определяю словом «научная философия», которая представляет собой выросшую из духа позитивизма попытку либо построить на основе имеющихся «результатов науки» «окончательную» метафизику или так называемое «мировоззрение», либо предоставить философии раствориться в наукоучении, т. е. в учении о принципах и методах науки. Гуссерль в тщательно подобранных выражениях порицает подобного рода попытки сфабриковать метафизику из основных понятий отдельной науки («энергия», «впечатление», «воление») или всех наук вместе и рассматривает такие попытки Оствальда, Ферворна, Гекеля, Маха в качестве примеров, показывающих, как в сущности бесконечный прогресс всякого научного восприятия, наблюдения или исследования вещей может в каком-либо месте оказаться произвольно остановленным. В точности таково и мое собственное мнение. «Научная философия» на самом деле – бессмыслица, ибо свои предпосылки позитивная наука должна установить самостоятельно, она сама должна вывести все свои возможные следствия и сама – разрешить свои противоречия, а у философии есть все основания держаться подальше, когда наука пытается впутать ее во все это. Лишь наука как целое вместе со своими предпосылками, например, математика вместе с основополагающими, установленными самими математиками аксиомами, снова станет для феноменологии проблемой в том смысле, что это целое будет феноменологически редуцировано, как бы заключено в скобки и исследовано в соответствии с его наглядными сущностными основаниями. Мне не кажется правильным, что плодам фантазии научных специалистов, которые хотели бы притвориться философами, – ведь все науки суть специальные науки – а значит, и так называемой «научной философии» Гуссерль дарует доброе имя мировоззренческой философии. Мировоззрения появляются и вызревают, а не измышляются учеными. Также и философия, как справедливо замечает Гуссерль, может быть в крайнем случае мировоззренческим учением, но никогда – мировоззрением. Считать, что мировоззренческое учение, представляя собой важную задачу, все же является не философией, а лишь исторической и систематической наукой о духе, было бы справедливо в отношении учения об отдельных конкретных мировоззрениях, например индийском, христианском и т. д. Однако имеется также философия, во-первых, «естественного мировоззрения», затем и всех вообще «возможных» неформальных мировоззрений, – философия, которая служит историческим фундаментом для соответствующих проблем конкретного мировоззренческого учения, относящихся к области наук о духе. Это мировоззренческое учение было бы в состоянии с помощью чистой, доведенной до абсолютного мыслимого совершенства философской феноменологии определить познавательную ценность мировоззрений. Кроме того, оно смогло бы продемонстрировать как то, что структуры фактических мировоззрений, в отличие от журналистских однодневок, создаваемых «научной философией», фундируют и обуславливают структуру фактических уровней развития и видов науки у разных народов в разные времена – и даже вообще наличие или отсутствие «науки» в западноевропейском смысле – так и то, что каждому изменению научной структуры закономерно предшествует соответствующее изменение мировоззрения. Только в этом пункте имеется, возможно, глубокое объективное различие между гуссерлевским и моим мнением – поскольку, в частности, Гуссерль склонен признавать за точными науками намного большую, чем это делаю я, фактическую независимость от меняющихся крайне медленно и неохотно мировоззрений, имеющих совершенно иную временную шкалу нежели та, которую обнаруживают успехи точных наук. Ибо, по моему мнению, структуры науки, ее фактические системы основных понятий и принципов в ходе истории претерпевают с переменой мировоззрений скачкообразные изменения, и лишь в рамках каждой данной структуры некоторого, например европейского, мировоззрения, существует, на мой взгляд, возможность принципиально не ограниченного прогресса науки. В связи с моим утверждением о том, что существенно необходимой предпосылкой особого рода познания, называемого философским, является моральная позиция, многие, возможно, вспомнили о доктринах, которые успели приобрести, особенно начиная с Канта и Фихте и вплоть до наших дней, немало сторонников. Я подразумеваю здесь доктрины, которые вслед за Кантом назвали «приматом практического разума над теоретическим». В самом деле, например, Виндельбанд в своей получившей известность работе о Платоне устанавливает связь с этим учением Канта сократической реформы и ее развития Платоном, – связь, не только не существующую, но само предположение которой заключает в себе радикальное непонимание того, что фактически имели в виду Сократ и Платон и что (в соответствии с нашей основной идеей) мы также считаем истинным. Великим античным основателям европейской философии не только не было знакомо какое-либо учение о так называемом примате практического разума над теоретическим, но напротив, совершенно очевидно, что теоретической жизни (jewreîn) они отдавали безоговорочное ценностное предпочтение над практической (práttein). Но именно это предпочтение отрицается любой формой, которую, начиная с Канта, принимало учение о примате практического разума. Истинное отношение между обоими воззрениями заключается в том, что античное учение выдвигает определенную моральную духовную установку (устремление всего человека ввысь, к подлинному) в качестве предпосылки философского познания, т. е. в качестве условия попадания в мир вещей, с которым имеет дело философия, или даже в качестве условия проникновения за порог этого мира, тогда как преодоление чисто практических установок человеческого бытия как раз и является тем, что составляет одну из задач и целей этой моральной духовной установки. Кант же, напротив, считает, что теоретическая философия не имеет для философа какой бы то ни было особой моральной предпосылки, и что даже в гипотетическом случае предельного совершенства философии прежде всего осознание долженствования и обязанности было бы тем, что смогло бы гарантировать нам причастность тому «метафизическому» порядку, попытки постичь который со стороны теоретического разума были бы, по мнению Канта, тщетными и иллюзорными. А Фихте (как и современная, в этом отношении находящаяся под его влиянием школа Г. Риккерта), сделал из теоретического разума только лишь инструмент для формирования практического, отождествив бытие вещи с требованием (идеальным долженствованием (Gesolltsein)) ее признания в акте суждения; бытие вещи таким образом попросту фундируется вмененным в обязанность признанием так называемого истинностного значения, если вообще не растворяется в «требовании» этого признания. Итак, то, что у Платона служит лишь субъективной, хотя в сущности и необходимой предпосылкой [для достижения] цели философии и теоретического познания бытия, для этих мыслителей является приматом морального в самих объективных порядках, тогда как философы античности, с точностью до наоборот, и в добре усматривали лишь наивысшую степень бытия (ÓntwV Ón). Так что как раз учение о примате практического разума наиболее сильно поколебало и оттеснило в сторону мысль о том, что определенный моральный образ жизни как раз и является предпосылкой чистого познания определенных сущих предметов, и что метафизические заблуждения связаны именно с «естественным» и преимущественно «практическим» отношением к окружающему миру.