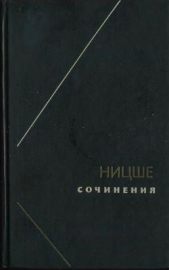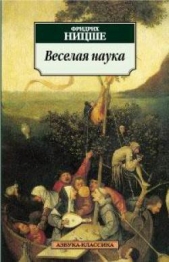Внутренний опыт

Внутренний опыт читать книгу онлайн
Главный философский труд Жоржа Батая (1897—1962), впервые издаваемый на русском языке. Для философов и литературоведов, для широкого круга читателей, интересующихся историей западноевропейской мысли XX века.
В литературе XX века Жорж Батай (1897—1962) занимает необыкновенно двусмысленное место. Так или иначе его творчество связывают с сюрреализмом, экзистенциализмом, структурализмом, хотя, развертываясь по краям названных философско-эстетических течений французской мысли, по существу оно к ним не принадлежало. Имя Батая ставят в один ряд с именами таких видных мастеров французской словесности, как А. Бретон, А. Камю, Ж.-П. Сартр, но, поддерживая с этими писателями тесные и непростые отношения, много своих сил он убил как раз на то, чтобы выявить их слабости и внутреннюю противоречивость.Его главные идеи, подхваченные было новейшей французской мыслью (Р. Барт, Ж. Делез, Ж. Деррида, Ж. Лакан, М. Фуко), до сих пор наталкиваются на живое сопротивление современной культуры, поскольку, взывая к канувшим в лету понятиям божественного, святого, святотатственного, жертвенного, ставят под вопрос как саму культуру, так и "современность” Наконец, его сочинения, бросая вызов междисциплинарным границам гуманитарного знания, захватывают самые разные жанры искусства мысли и все время разрушают их, преступая их нормы и каноны: перу Батая принадлежат богохульные эротические романы и ученые трактаты по истории религии и политической экономии, проникновенные стихотворные миниатюры, хлесткие политические памфлеты и серьезные социологические штудии, россыпи блестящих афоризмов и многотомная "Сумма атеологии”, глубокие этюды по "Феноменологии духа” Гегеля и блестящие искусствоведческие эссе о наскальной живописи, картинах Мане, романах Пруста, стихах Шара.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Если я “сыграю” абсолютное знание, вот уже я сам себе Бог, по необходимости (в системе не может быть — даже в Боге — познания, заходящего по ту сторону абсолютного знания). Мысль об этом самом себе — о самости — смогла сделаться абсолютной, лишь став всем. “Феноменологию духа” составляют два существенных движения, замыкающих круг: это ступенчатое завершение самосознания (человеческой самости) и движение, в котором эта самость, завершая знание, становится всем (становится Богом) (и тем самым разрушает особенное, частное в себе, завершаясь, стало быть, самоотрицанием, абсолютным знанием). Но если на этот манер — заражаясь и разыгрываясь — я совершаю в самом себе круговое движение Гегеля, по ту сторону достигнутых пределов я замечаю уже не неизвестное, а незнаемое. Оно будет незнаемым не из-за недостаточности разума, а по своей природе (даже для Гегеля забота об этой беспредельности возникает только из-за неимения абсолютного знания…). Посему за предположением, что я Бог, что я в этом мире обладаю силой Гегеля (упраздняя мрак и сомнение), знаю все, и даже то, почему завершенное знание требует, чтобы порождали друг друга человек, эти несчетные частички моего я, и история, — именно в этот момент возникает вопрос, который выводит на сцену человеческое, божественное существование… заводя в самую отдаленную даль безвозвратной темноты: почему надо, чтобы было то, что я знаю? Почему эта необходимость? В этом вопросе кроется — поначалу даже не проглядывая — необозримый разрыв, столь глубокий, что ответствует ему единственно безмолвие экстаза.
Вопрос этот отличен от вопроса Хайдеггера (почему вообще есть сущее, а не наоборот — ничто?) в том, что ставится лишь после всех мыслимых и немыслимых, ошибочных и безошибочных ответов на все последовательные вопросы, сформулированные рассудком; вот почему разит он знание в самое сердце.
Недостает гордости в этом упрямом желании знать рассудочно вплоть до самого конца. Думается, однако, что Гегелю недоставало гордости (он был закабален) лишь с виду. Несомненно, у него был тон раздражительного зазнайки, но на том портрете, где он изображен в старости, мне видится изнеможение, ужас быть в средоточии мира — ужас быть Богом. Гегель в ту пору, когда система замкнулась, целых два года думал, что сходит с ума: возможно, ему стало страшно, что он принял зло — которое система оправдывает и делает необходимым; или, возможно, связав свою уверенность в том, что достиг абсолютного знания, с завершением истории — с переходом существования к состоянию пустой монотонности, он узрел в самом глубинном смысле, что становится мертвым; возможно, что разнообразные печали сложились в нем в более сокровенный ужас быть Богом. И все же мне кажется, что Гегель, испытывая отвращение к экстатическому пути (к единственному прямому разрешению тоски), должен был искать убежища в иногда эффективной (когда он писал или говорил), но тщетной попытке уравновешенности и согласия с существующим, активным, официальным миром.
Понятно, мое существование, как и всякое другое, идет от неизвестного к известному (приводит неизвестное к известному). Я не испытываю никаких затруднений; полагаю, что могу, как никто другой из тех, кого знаю, предаваться операциям знания. Мне это необходимо — как и другим. Мое существование складывается из начинаний и движений, направляемых познанием к надлежащим пунктам. Оно сидит во мне, это познание, я слышу его в каждом утверждении этой книги, чувствую, что оно связано с ее начинаниями и движениями (а последние сами связаны с моими страхами, желаниями и радостями). Познание ни в чем не отличается от меня: я есмь оно, это и есть существование, коим я есмь. Но это существование не сводится к познанию: подобное сведение потребовало бы того, чтобы известное стало целью существования, а не наоборот — существование целью известного.
Есть в рассудке слепое пятно, которое напоминает о структуре глаза. Как в рассудке, так и в глазе различить его можно с большим трудом. Однако, если слепое пятно глаза не влияет на сам глаз, природа рассудка требует, чтобы слепое пятно в нем имело больший смысл, чем сам рассудок. Пока рассудок подчинен действию, слепое пятно влияет на него так же мало, как на глаз. Но когда мы видим в рассудке самого человека, то есть опробывание всех возможностей бытия, пятно поглощает наше внимание: уже не пятно теряется в познании, а познание теряется в нем. Таким образом, существование замыкает круг, но оно не смогло бы сделать этого, не включив в него и ночь, из которой оно выступает лишь затем, чтобы вернуться в нее. Поскольку оно шло от неизвестного к известному, ему следует низвергнуться с вершины и вернуться к неизвестному.
Действие вводит известное (сделанное), затем рассудок, связанный с действием, приводит несделанные, неизвестные элементы к известному. Но вожделение, поэзия, смех непрестанно подталкивают жизнь в противоположном направлении, ибо идут от известного к неизвестному. Под конец существование обнаруживает слепое пятно в рассудке и полностью в него погружается. Иначе и не могло быть, только вот то там, то здесь представляются возможности покоя. Но ничего подобного: пребывает только круговое брожение, которое не исчерпывает себя в экстазе, а возобновляется в нем.
Крайняя возможность. Возможность того, что незнание опять станет знанием. Я буду исследовать ночь! Да нет, это ночь исследует меня. Смерть умиротворяет жажду незнания. Но отсутствие — это не покой. Отсутствие и смерть не находят во мне ответа и безжалостно поглощают меня, раз и навсегда.
Даже внутри завершенного (безостановочного) круга незнание — это цель, а знание — средство. Когда оно начинает считать себя целью, знание гибнет в слепом пятне. Поэзия, смех и экстаз не могут быть средством чего-то другого. В “системе” поэзия, смех, экстаз суть “ничто”; Гегель спешит избавиться от них, он не знает иной цели, кроме знания. Его непомерная усталость связана, на мой взгляд, с ужасом перед слепым пятном.
Завершение круга было для Гегеля завершением человека. И завершенный человек был для него обязательно “трудом”: он мог им быть, поскольку он, Гегель, был “знанием”. Ибо знание “трудится”, чего не случается ни с поэзией, ни со смехом, ни с экстазом. Но поэзия, смех, экстаз не входят в завершенного человека, не дают “удовлетворения”. За отсутствием возможности от них умереть их покидают тайком (как девку после ночи любви), испытывая какое-то одурение, тупую погруженность в отсутствие смерти: в ясное познание, деятельность, труд.
IV.
ЭКСТАЗ.
РАССКАЗ ОБ ОДНОМ НЕ ОЧЕНЬ-ТО УДАВШЕМСЯ ОПЫТЕ
Как-то раз, когда день клонился к закату, а тишина ложилась на чистое-чистое небо, я сидел в одиночестве на тесной белой веранде, не видя ничего, кроме крыши ближайшего дома, листвы стоящего рядом дерева и неба. Я поднялся было, чтобы пойти спать, но вдруг почувствовал, насколько проникся нежностью мира. Только что мной владело какое-то Духовное неистовство, и под его впечатлением я понял, что испытанное мною блаженство не так уж отличалось от “мистических” состояний. По крайней мере, поскольку рассеянность внезапно сменилась удивлением, я ощутил это состояние гораздо сильнее, чем обычно, да и так, словно переживал его не я, а кто-то другой. Я не мог не согласиться с тем, что даже во внимании, коего ему недоставало лишь поначалу, это банальное блаженство не было доподлинным внутренним опытом, явно отличным от проекта и рассуждения-Не придавая этим словам какой-то исключительной ценности, я подумал, что мне сообщалась “нежность неба”, и я мог в себе самом отчетливо ощущать отвечавшие ей состояния. Я чувствовал, что она наполняет мою голову каким-то парящим, едва-едва различимым струением, как-то причастным нежности того, что было вне меня, дававшим мне ее во владение и заставлявшим ею насладиться.