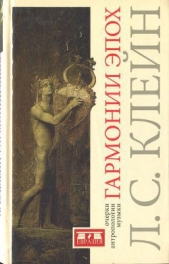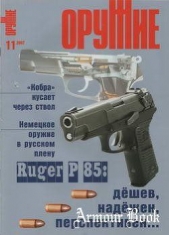Избранное: Социология музыки

Избранное: Социология музыки читать книгу онлайн
В книге публикуются произведения одного из создателей социологии музыки Теодора В. Адорно (1902-1969), крупного немецкого философа и социолога, многие годы проведшего в эмиграции в Америке ("Введение в социологию музыки. Двенадцать теоретических лекций", "Антон фон Веберн", "Музыкальные моменты"). Выдающийся музыкальный критик, чутко прислушивавшийся к становлению музыки новейшего времени, музыки XX века, сказавший весомое и новое слово о путях ее развития, ее прозрений и оправданности перед лицом трагической эпохи, Адорно предугадывает и опасности, заложенные в ее глубинах, в ее поисках выхода за пределы возможного… Советами Теодора Адорно пользовался Томас Манн, создавая "книгу боли", трагический роман "Доктор Фаустус".
Том включает также четыре статьи первого российского исследователя творчества Адорно, исследователя глубокого и тонкого, – Александра Викторовича Михайлова (1938-1995), считавшего Адорно "музыкальным критиком необыкновенных, грандиозных масштабов".
Книга интересна и доступна не только специалистам, но и широкому кругу читателей, интересующихся проблемами современной европейской культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После этого кажется естественным определить камерную музыку как музыку интровертивную, самоуглубленную. Но такая идея самоуглубленности едва ли достигает уровня этого социально-исторического феномена. Не напрасно эта идея стала средством коварно-реакционной апологии жанра для тех, кто цепляется за свою музыку и противостоит технической цивилизации, как если бы музыка спасала от всего внешнего, коммерческого и, выражаясь их языком, декадентского в искусстве. Тот, кто так относится к камерной музыке, действительно не поднимается над всем этим, – тот рассчитывает законсервировать и реставрировать экономически и социально превзойденные этапы в их провинциальной стагнации. Одна книга, вышедшая после Второй мировой войны, называлась "Тихие радости струнного квартета". Вот от таких идеологических извращений самоуглубления значительная камерная музыка далека. Эта идеология имеет в качестве своего субстрата некоторую конкретность, в действительности в высшей степени абстрактную, – существующего для себя чистого индивида. А камерная музыка по своей структуре есть нечто объективное. Она никоим образом не ограничивается выражением субъективности отчужденного индивида. Она таковой становится лишь в самом конце своего пути, когда занимает ту полемически заостренную крайнюю позицию, которая больше всего по нраву любителям тихих радостей. А прежде она разворачивала необразную картину антагонистически развивающегося и движущегося вперед целого – в той мере, в какой опыт обособленных индивидов вообще соразмерен целому.
Утраченная объективность, вновь обретаемая в области субъективно ограниченной, – вот что определяло социальную и метафизическую сущность камерной музыки. Не столько затхло самодовольное слово "самоуглубление" – (Innerlichkeit), пригодное для описания сущности камерной музыки, сколько "буржуазный дом" – место, где селится камерная музыка, место, предопределенное для нее уже объемом ее звучания. В "доме", как и в камерной музыке, не предусмотрено разделения на исполнителей и слушателей. Казалось бы, незначительные и невинные образы – слушатель, переворачивающий листы фортепианной партии, другой, внимательно следящий по нотам за музыкальным развитием. – но эти образы не устранить из практики домашнего камерного музицирования XIX и начала XX в.; это – социальные imagines [65] музыки.
Буржуазный интерьер старого стиля стремился быть миром для себя, как камерная музыка. Правда, это с самого начала сформировало одно противоречие. Музыка, благодаря месту своего исполнения и благодаря своим исполнителям закрепленная за сферой частной жизни, в то же время трансцендировала эту сферу благодаря своему содержанию – объективации целого. Отсутствие всякой мысли о широком воздействии музыки было заложено в самом принципе, в самом частном характере музыки, и это ускоряло процесс автономного становления самой музыки через посредство такого содержания. А это должно было сломать социальные рамки этой музыки и круга ее исполнителей. Еще прежде, чем жанр музыкальной интимности вполне встал на ноги, он уже плохо чувствовал себя в домашней обстановке. Бетховен сказал об окончательной редакции Шести квартетов ор.18, первом произведении, в котором он уверенно пользовался техническими приемами, – что только теперь он научился по-настоящему писать квартеты. К этому высказыванию надо отнестись с особенным вниманием, потому что у этого опуса не было собственно никакого прототипа; его приемы имеют мало общего даже с большими квартетами Моцарта, посвященными Гайдну. Бетховен выводил критерий подлинного струнного квартета из внутренних, имманентных требований жанра, а не из перешедших по традиции моделей. Но вполне возможно, что именно это обстоятельство, выведшее камерно-музыкальное творчество за рамки его тогдашних и еще очень новых архетипов, и воспрепятствовало адекватной их интерпретации любителями. А, следовательно, в принципе, и исполнению в домашней обстановке. Музыканты-профессионалы экономически были вынуждены искать более многочисленной публики, а потому обращались к форме концерта. Вряд ли намного иначе обстояло дело и с теми моцартовскими квартетами, посвящение которых великому композитору уже свидетельствует о примате музыкального сочинения перед музицированием; они принадлежат к тем созданиям, которые Моцарт оставил почти в каждом музыкальном жанре и которые выглядят как парадигмы подлинного сочинения музыки, которые как бы протестуют против бездны сочинений на заказ и ограничений техники и фантазии, навязываемых гению.
И потому в применении к камерной музыке можно говорить о рано проявившемся антагонистическом противоречии между производительными силами и производственными отношениями и притом не как о внешней диспропорции между структурой произведений и их восприятием и усвоением в обществе, но как об имманентно-художественном противоречии. Это противоречие шло дальше и разрушило последнее пространство – помещение, которое обеспечивало принятие и понимание – усвоение музыки; но вместе с тем это противоречие ускорило развитие жанра и способствовало его величию. Это музыка, без всяких иллюзий тотальной гармонии, соответствовала антагонистическому состоянию общества, организованного в соответствии с principium individuationis [66], и в то же время оставляла далеко позади себя всякое уподобление обществу – благодаря тому, что она говорила. Следуя закону своей формы и только ему, она все острее оттачивала свое оружие, выступая против машины рыночно-музыкального хозяйства и против общества, которому это хозяйство было всецело подчинено. И это противоречие тоже нашло свое видимое выражение в imago малого зала. Небольшие залы были и раньше в замках; но теперь в одном здании с большими концертными залами, предназначенными для симфонических произведений, стали, исходя из потребности буржуазии, планировать и малый зал, который по своей акустике и по своей обстановке еще соответствовал как-то камерно-музыкальной интимности, но уже раскрывал перед обществом дорогу к ней и сообразовывал ее с условиями рынка.
Я сам познакомился со всей традиционной литературой квартетов, прежде всего с Бетховеном, на концертах квартета Розе в акустически идеальном зале франкфуртского Заальбау. Малый зал был местом, где музыка и общество заключили между собой перемирие. И не было бы ничего удивительного, если бы после воздушных налетов Второй мировой войны такие залы не стали восстанавливать или восстанавливали в ограниченных масштабах – ведь камерно-музыкальное перемирие между искусством и обществом было недолговечным; общественный договор был расторгнут. В буржуазном мире, собственно говоря, невозможны малые залы. Если их строят ради искусства, а не ради реальных целей и требований замкового устройства, как во времена феодализма, то над ними нависает тень парадокса. Буржуазная идея зала автоматически включает в себя монументальность, поскольку она не может быть отделена от ассоциаций, связанных с большими политическими собраниями или, по крайней мере, с парламентом. Камерная музыка и взлет капитализма плохо переносили друг друга. Тенденции камерной музыки, которая когда-то приводила всех участников концерта к эфемерному согласию, привели к отказу от общественного признания прежде, чем это произошло с другими типами музыки. Эволюция новой музыки началась именно в этой области. Важнейшие нововведения Шёнберга были бы невозможны, если бы он не отвернулся от помпезности симфонических поэм своего времени и не избрал своим ко многому обязывающим образцом квартетное письмо Брамса.
Музыкальная форма, рассчитанная на большой зал, – это симфония. Нельзя недооценивать то, всем прекрасно известное, обстоятельство, что ее архитектонические схемы совпадают со схемами камерно-музыкальными и что их продолжали применять и брамсовское, и брукнеровское направления в музыке еще и тогда, когда от них уже отпочковалась другая ветвь – симфонической поэмы. Эта последняя взбунтовалась раньше, чем камерная и фортепианная музыка, но протест ее был менее радикальным, чем в последнем случае, где творческая критика завладела канонизированными формами вплоть до мельчайших их элементов и затронула самый их нерв. В эпоху, подготовлявшую венскую классику, у маннгеймцев, граница между симфонической и камерной музыкой не была строго проведена. Она оставалась лабильной и впоследствии: в камерно-музыкальном тоне первой части Четвертой симфонии Брамса так же трудно сомневаться, как и в симфоническом характере его фортепианных сонат, что заметил уже Шуман в своей знаменитой рецензии; то же можно сказать и о первой части фа-минорного квартета ор.95 Бетховена. Сонатная форма оказывалась особенно пригодной для изображения субъективно-опосредованной динамической целостности. Идея целостности – как идея самой музыки безотносительно к воспринимающим эту музыку индивидам – будучи почерпнута из социального фундамента, утверждала свой приоритет перед более ярко выявленным, но вторичным различением общественной, гласной, и частной, личной сферы. Это различие само по себе не могло претендовать на полную субстанциальность, поскольку музыкальная общественность не была ни каким-нибудь народным собранием, ни подлинной общностью людей в смысле непосредственной демократии, но объединяла отдельных индивидов, которые по случаю торжественного симфонического собрания могли субъективно отбросить чувство своей разъединен ности, что отнюдь не потрясало самой основы, порождающей это чувство.