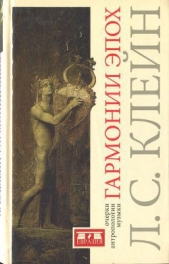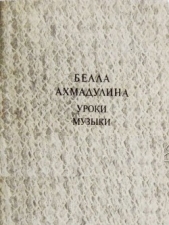Философия новой музыки

Философия новой музыки читать книгу онлайн
Данное издание выпущено в рамках программы Центрально-Европейского Университета «Translation Project» при поддержке Центра по развитию издательской деятельности (OSI-Budapest) и института «Открытое общество. Фонд Содействия» (OSIAF-Moscow)
Существует два варианта перевода использованного в оформлении обложки средневекового латинского изречения. Буквальный: сеятель Арепо держит колесо в работе (крутящимся), и переносный: сеятель Арепо умеряет трудом превратности судьбы. Для Веберна эта формульная фраза являлась символом предельной творческой ясности, лаконичности и наглядности (FaBlichkeit), к которым он стремился и в своих произведениях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
СТРАВИНСКИЙ И РЕСТАВРАЦИЯ
Кроме того, ничему не помогает, так сказать, заново субстанциально присваивать отжившие мировоззрения, т. е. стремиться втягиваться в одно из таких мировоззрений, как, например, переходить в католицизм, что в новейшие времена многие сделали ради искусства, чтобы зафиксировать свой настрой и для самих себя представить определенное ограничение того, что их искусство изображает, как нечто в-себе-и-для-себя-сущее.
Историческая иннервация Стравинского и его свиты соблазнилась возможностью заново вообразить музыку через стилевые процедуры ее обязывающей сущности. Если процесс рационализации музыки, интегрального овладения ее материалом, совпал с процессом ее субъективации, то Стравинский ради организационного господства критически отнесся к обоим процессам, что представляется моментом произвола. Професс музыки по направлению к полной свободе субъекта, если пользоваться критериями наличествующего, является иррациональным – в той степени, в какой он разделывается не только со всеохватывающим музыкальным языком, но и с доходчивой логикой поверхностных взаимосвязей. Стародавняя философская апория, согласно которой субъект как носитель объективной рациональности остается неотделимым от индивида в его случайности, приметы коей извращают достижения упомянутой рациональности, в конце концов сделалась для музыки обузой, и фактически ее так и не удалось разрешить средствами чистой логики. Дух таких авторов, как Стравинский, резко реагирует против определенных импульсов, не улавливаемых в обобщенном, – собственно говоря, против всяких следов социально непостижимого. Намерение таких авторов состоит в «точечном» восстановлении подлинности музыки: они стремятся внешним путем придать ей характер утвержденного, насильственно вырядить ее в одежды «так-и-не-может-быть-иначе». Музыка Новой Венской школы надеется смягчить эту насильственность безграничным самопогружением и сплошной организованностью; однако ее внешняя упорядоченность выглядит изношенной. Даже при своем исполнении она стремится к «соисполнению» со стороны слушателя, а не просто к реактивному сопереживанию. Поскольку эта музыка не «впрягает» слушателя в процесс своего исполнения, сознание Стравинского изобличает ее как немощную и случайную. Стравинский отказывается от строгого самораскрытия сущности в пользу резкой видимости феномена, его убедительной силы. Исполнение музыки не должно терпеть противоречий. То же самое когда-то, во времена своей юности, решительно сформулировал Хиндемит: ему представился стиль, когда все должны писать одинаково, как во времена Баха или Моцарта. В качестве наставника он и по сей день осуществляет эту программу унификации (Gleichschaltung). Артистическое благоразумие и рафинированное мастерство Стравинского с самого начала были в принципе свободны от такой наивности. Свою попытку реставрации он предпринял «цивилизованно» и без неприязни, служащей основанием для тяги к уравниловке, а само его предприятие оказалось насквозь проникнуто определяющим осознанием сомнительности и фиглярства, даже если начищенные до блеска партитуры, которыми он сегодня потчует слушателей, способствуют забвению этого. Его объективизм намного перевешивает объективность всего, что на него ориентировано, из-за того, что он, по сути, включает момент собственной негативности. И все-таки нет никакого сомнения в том, что его враждебное грезам творчество вдохновляется грезой о подлинности, неким horror vacui [72], страхом перед тщетностью того, что больше не находит общественного резонанса и остается прикованным к эфемерной судьбе единичного. В Стравинском упрямо живет желание подростка стать в своих произведениях действующим и признанным классиком, а не просто обреченным на забвение модернистом, чья суть искажается в непримиримом споре художественных направлений. Насколько легко в таком типе реакции распознать непросвещенное уважение и бессилие смыкающихся с ним упований – ибо ни один художник не ведает, какие произведения выживут, – настолько бесспорно в его основе все же лежит опыт, позволяющий, по крайней мере, поспорить с теми, кто знает о невозможности реставрации. Даже самая совершенная песня Антона Веберна по своей подлинности уступает простейшей пьесе из «Зимнего пути»; даже в своей поверхностной удачности эта подлинность вырисовывается как безусловно намеренная установка сознания. Последняя находит наиболее уместную объективацию. Но эта объективация не имеет ничего общего с объективностью содержания, с истинностью или неистинностью самой установки сознания. И вот Стравинский впрямую нацелен на установку сознания, а не на успешное выражение ситуации, которую ему хотелось бы не столько зафиксировать, сколько окинуть взглядом. Его слух не способен воспринять наиболее передовую музыку так, словно она существует с начала времен, однако Стравинский хочет, чтобы музыка звучала именно так. Критика такой цели должна быть посвящена познанию ступеней ее реализации.
Стравинский с презрением отверг легкий путь к подлинности. Путь этот был академичным и заключался в ограничении музыкального языка апробированным «словарным запасом», сформировавшимся в продолжение восемнадцатого и девятнадцатого столетий, и с точки зрения буржуазного сознания, которому этот словарь принадлежит, получил клеймо само собой разумеющегося и «естественного». Ученик Римского-Корсакова, исправлявшего гармонию Мусоргского по консерваторским правилам, взбунтовался против своей мастерской, словно фовист в живописи [73]. Его чувству обязательности притязания на нее казались невыносимыми там, где он опровергал самого себя, когда постулировал опосредованный образованием консенсус вместо яростного насилия, осуществлявшегося тональностью в героические времена буржуазии. Отшлифованность музыкального языка, наполненность каждой из его формул интенциями представлялись ему не гарантией подлинности, а ее износом [74]. Если подлинность стала вялой, ее следует устранить ради действенности ее же принципа. Это происходит посредством упразднения интенций. Вот так, как бы от непосредственного вглядывания в музыкальную hyle [75], композитор ожидает обязательности. Нельзя не обнаружить родство этого настроя с совпавшей с ним по времени философской феноменологией. Отказ от всяческого психологизма, редукция к чистому феномену, как он проявляется сам по себе, должны открыть целую сферу неоспоримого, «аутентичного» бытия. Здесь, как и в музыке, недоверие к «неизначальному», на самом глубоком уровне – ощущение противоречия между реальным обществом и его идеологией – ведет к соблазну гипостазировать как истину «остаток», получившийся за вычетом мнимо вложенного. Здесь, как и в музыке, дух впал в иллюзию того, что в собственном кругу, в кругу мыслей и искусства, он в состоянии избежать проклятия, делающего его только духом и рефлексией, а не самим бытием; здесь, как и в музыке, неопосредованная противоположность между «вещью» и духовной рефлексией оказалась возведенной в абсолют, и потому субъект возводит продукт в ранг естественного. В обоих случаях речь идет о химеричном бунте культуры против собственной культурной сути. Этот бунт Стравинский предпринимает не только в интимно-эстетическом заигрывании с варварством, но и в яростном отбрасывании того, что в музыке называлось культурой, в отбрасывании по-человечески красноречивого художественного произведения. Его влечет туда, где музыка осталась позади развитого буржуазного субъекта, где она функционирует как неинтенциональная и возбуждает телесные движения вместо того, чтобы еще что-нибудь означать, – туда, где значения настолько ритуализованы, что их невозможно пережить в качестве специфического смысла музыкального действа. Эстетический идеал здесь – идеал исполнения, не вызывающего вопросов. Подобно Франку Ведекинду в его цирковых пьесах, Стравинский избрал своим паролем «телесное искусство». Он начинает как главный композитор русского балета. Начиная с «Петрушки», в его партитурах, непрерывно удаляющихся от вчувствования в характеры действующих лиц, отмечаются жесты и па. Для этих партитур характерна начетническая ограниченность, и поэтому они до крайности противоположны той претензии на всеобщий охват, которую школа Шёнберга разделяет в своих наиболее уязвимых структурах с Бетховеном периода Героической симфонии. Разделению труда, изобличенному идеологией Шёнберговой «Счастливой руки», Стравинский коварно платит дань, ибо он осознал беспомощность попыток путем одухотворенности перейти границу способностей, понимаемых как ремесло. Наряду с соответствующим духу времени настроем специалиста здесь присутствует антиидеологический момент: специалист должен выполнять отчетливо сформулированные задачи, а не делать то, что Малер называл построением мира всевозможными техническими средствами. Чтобы излечиться от разделения труда, Стравинский предлагает довести его до апогея и тем самым перехитрить культуру разделения труда. Узкую специализацию он превращает в специальность для мюзик-холла, варьете и цирка в том виде, как она прославлена в «Параде» Кокто и Сати, но задумана еще в «Петрушке». Эстетический результат окончательно становится таким, каким он мыслился еще в импрессионизме – tour de force, нарушением силы тяготения, мистификацией чрезвычайно напряженных тренировок, порождающих невозможное. И действительно, гармония Стравинского постоянно висит в воздухе, освобождаясь от притяжения ступенчато выстраиваемого движения аккордов. Одержимость и далекое от смысла совершенство акробатов, несвобода того, кто твердит одно и то же даже при исполнении отчаянно смелого номера, неинтенционально и объективно демонстрируют хозяйничанье, полновластие и свободу от природного принуждения, но все это одновременно опровергается как идеология там, где оно утверждается. Слепой и бесконечный, как бы избежавший эстетических антиномий успех акробатического акта будет встречен с восторгом как стремительно осуществленная утопия того, что благодаря доведенному до крайности разделению труда и овеществлению перелетает через границы буржуазного. Неинтенциональность считается обетованием исполнения всех интенций. Согласно «неоимпрессионистическому» стилю, «Петрушка» составляется из бесчисленных трюков – от запечатленной в музыке молниеносной смены ярмарочных шумов до издевательских пародий на всевозможную музыку, отвергаемую официальной культурой. Он пришел из атмосферы литературного и художественно-кустарного кабаре. Если Стравинский и сохраняет верность этому апокрифическому элементу, то одновременно он резко протестует против содержащегося в нем нарциссически-возвышенного, против одухотворенности паяца и богемной ауры – и беспощадную ликвидацию внутреннего мира, возвещаемую аккуратно воспроизводимыми номерами из кабаре, оборачивает против них самих. Эта тенденция ведет от художественного ремесла, «изукрашивающего» душу как товар, к отрицанию души в знак протеста против ее товарного характера, к тому, что музыка клянется в верности physis, к сведению музыки к явлению, принимающему объективное значение, когда она отказывается означать что-либо «из себя». Эгон Веллес не так уж несправедливо сравнил Петрушку с Шёнберговым Пьеро. Оба героя-тезки соприкасаются друг с другом в уже несколько изношенной в их эпоху идее неоромантического преображения клоуна, трагизм которого говорит о надвигающейся немощи субъективности, и при этом иронически сохраняется первенство обреченной субъективности; Пьеро и Петрушка, подобно Уленшпигелю Штрауса, чьи отголоски несколько раз слышатся в балете Стравинского, пережили собственную смерть. Но в трактовке трагического клоуна исторические линии новой музыки расходятся [76]. У Шёнберга все настроено на отрекающуюся от самой себя, одинокую субъективность. Вся третья часть изображает «путешествие на родину», в стеклянную ничейную страну, в кристаллически-безжизненном воздухе которой как бы трансцендентальный субъект, освободившись от переплетений эмпирического, вновь оказывается на уровне воображаемого. Не меньше, чем текст, этому служит сложность музыки, рисующей образ безнадежной надежды вместе с выражением потерпевшей крушение защищенности. Такой пафос совершенно чужд «Петрушке» Стравинского. Нельзя сказать, что ему недостает субъективистских черт, но музыка принимает, скорее, сторону тех, кто осмеивает истязаемого, чем сторону его самого, и, следовательно, бессмертие клоуна в конечном счете вызывает у коллектива не примирение, а злые угрозы. Субъективность у Стравинского принимает характер жертвенности, а музыка – в чем Стравинский издевается над традицией гуманистического искусства – идентифицирует себя не со страдающим субъектом, а с ликвидирующей его инстанцией. Посредством ликвидации жертвы она отказывается от интенций, от собственной субъективности.