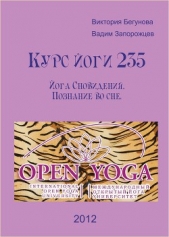О назначении человека

О назначении человека читать книгу онлайн
«… Основной, изначальной проблемой является проблема человека, проблема человеческого познания, человеческой свободы, человеческого творчества. В человеке скрыта загадка познания и загадка бытия. Именно человек и есть то загадочное в мире существо, из мира необъяснимое, через которое только и возможен прорыв к самому бытию. Человек есть носитель смысла, хотя человек есть вместе с тем и падшее существо, в котором смысл поруган. Но падение возможно лишь с высоты, и само падение человека есть знак его высоты, его величия. …»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Этика закона есть этика дохристианская, не только ветхозаветно-иудаистическая, но и языческая, первобытно-социальная, и аристотелевская и стоическая, и пелагианская и томистская (в значительной половине своей) внутри христианства. [69] И вместе с тем этика закона есть вечное начало, которое признает и христианский мир, ибо в нем грех и зло не побеждены. Этику закона нельзя понимать исключительно хронологически, она сосуществует с этикой искупления и этикой творчества. Но этика закона и метафизика закона имеют очень сложную судьбу в истории христианства. Христианство есть откровение благодати, и этика христианская есть этика искупления, а не закона, этика благодатной силы. Но христианство отяжелевало и перерождалось в законническом мире. Само христианство истолковывалось законнически. Так, официальная католическая теология носит в очень большой степени законнический характер. Само Евангелие постоянно искажали законническим истолкованием. Юридизм, рационализм и формализм всегда были внесением закона в истину христианского откровения, по существу сверхзаконную. Даже благодать получила законническое истолкование. Учения Ап. Павла испугались, его ограничивали и смягчали. В самое церковное сознание проникли полупелагианские, рационалистические, законнические элементы. Лютер пламенно восстал против закона в христианстве, против законнической этики и пытался стать по ту сторону добра и зла. [70] Но Лютера испугались и его последователи лютеране, они старались обезопасить страстные протесты Лютера, умерить и рационализировать его иррационализм. Только школа К. Барта вслед за Киркегардтом возвращается в парадоксальности Лютера. [71] В истории христианства постоянно противоборствовали начала благодати, сверхзаконнические начала духовного возрождения с началами законническими, юридическими, рационалистическими. Этика законническая имеет свои древние, глубокие корни в человеческом обществе, она восходит к первобытным кланам с их тотемистическими культами, к первобытному табу. Этика закона есть по преимуществу этика социальная в отличие от личной этики искупления и творчества. Грехопадение подчинило человеческую совесть обществу. Общество делается носителем и охранителем нравственного закона. И те социологи, которые учат о социальном происхождении нравственного, бесспорно, видят какую-то истину. Но они не видят первоисточника этой истины и ее глубокого смысла. Этика закона и значит прежде всего, что субъектом нравственной оценки является общество, а не личность, что общество устанавливает нравственные запреты, табу, законы и нормы, которым личность должна повиноваться под страхом нравственного отлучения и кары. Этика закона не может быть индивидуальной и персоналистической, она никогда не проникает в интимную глубину нравственной жизни личности, нравственного опыта и борений. Она преувеличивает зло в отношении личности человеческой, устанавливая запреты и кары. И она преуменьшает зло мировой и общественной жизни, она оптимистична. Социальная этика строит оптимистическое учение о силе нравственного закона, оптимистическое учение о свободе воли, оптимистическое учение о наказании и каре злых, которой будто бы подтверждается царящая в мире справедливость. Этика закона разом и в высшей степени человечна, приспособлена к человеческим нуждам и потребностям, к человеческому уровню, и в высшей степени бесчеловечна, беспощадна к человеческой личности, к ее индивидуальной судьбе и к ее интимной жизни.
2. Первобытное нравственное сознание. Научная социология и антропология очень много занималась первобытным человеком. Но методы и основные принципы исследования определялись эволюционной теорией второй половины XIX века. Исследовали современных дикарей и от них заключали о первобытном человеке. Совсем не в результате научного исследования, которое, в сущности, было невозможно, а в результате предвзятого философского принципа полагали, что человек был сначала в диком полузверином состоянии и потом постепенно цивилизовался до человека XIX века. О далеком прошлом человека судили по настоящему, по дикарям и животным. И воображение ученых было так слабо, что не могли себе в далеком прошлом ничего представить иного, чем то, что видели в современности и на более низких иерархических ступенях жизни. Но древний человек и древняя жизнь были безмерно таинственнее и загадочнее, чем это представляется антропологам и социологам. Оккультисты и теософы тут более правы, чем антропологи и социологи. Какая-то доля истины есть в так называемой Акаше-Хронике, Летописи мира, хотя она и легко вульгаризируется. На заре человечества мир был в ином состоянии, чем наш исторический мир. Он был более разжиженный, и в нем границы, отделяющие этот мир от миров иных, не были еще столь резки. Об этом в прикрытой форме рассказано в Библии, в книге Бытия. Эволюционизм XIX в. нужно считать преодоленным философски и научно, и он не может лежать в основании методов и принципов исследования. Недопустимо переносить на древнее, первобытное человечество наши навыки мысли, нашу психологию, нашу картину мира. Тогда все было иное, не похожее и на современных дикарей, и на современный животный мир. Леви Брюль, критикуя Тэйлора и Фрэзера, пытается открыть первобытное мышление, совсем не похожее на мышление людей цивилизованных. [72]
Но его современное позитивистическое и рационалистическое миросозерцание мешает ему понять, в чем тут дело. То, что он называет loi de la participation, свидетельствует о том, что мышление первобытное принадлежит к более высокому типу, чем мышление человека XIX в., ибо выражает мистическую близость познающего к своему предмету. В развитии цивилизации человек не только что-то приобретает, но и что-то теряет. Человек есть существо не только восходящее, но и вырождающееся, падающее, ослабевающее, обедняющееся. Несомненно, какие-то древние знания, связанные с близостью к истокам бытия, были утеряны человеком впоследствии, и о них осталось у человека лишь воспоминание. [73] Несомненно, были великие культуры в прошлом, напр. культура Вавилона и Египта, после которых наступил регресс, а не прогресс, и были утеряны огромные достижения. Есть очень большие основания верить в реальность мифа об Атлантиде, в которой очень высокая цивилизация подверглась нравственной порче и погибла. Гораздо больше оснований считать известного нам дикаря продуктом вырождения и упадка, одичания человека, чем первобытным человеком и источником человеческого развития. И, характеризуя первобытное нравственное сознание, мы не должны предрешать вопроса об истоках человечества, о древнем человеке. Мы имеем тут дело с вторичным, а не первичным слоем и уже подлежащим наблюдению и исследованию. Психопатология пролила больше света на древнего человека, чем социология.
Вестермарк в значительной мере прав, когда говорит, что нравственные эмоции родились из ressentiment. Поэтому в первобытном нравственном сознании такую центральную и колоссальную роль играет месть. Этика закона в сознании первобытном прежде всего выражается в мести, и это проливает свет на генезис добра и зла. Древний ужас, страх в значительной степени определял нравственную жизнь. Месть связана с этим ужасом. Тень убитого будет преследовать родственника, пока он не отомстит убийце. Древний человек очень ощущал власть умерших над жизнью, и этот ужас перед умершими, перед миром подземным был безмерно глубже беззаботности и легкости современного человека относительно мира умерших. Замечательно, что древнее чувство мести, терзавшее мстителя, совсем не было инстинктом жестокости и кровожадности, порождением злобы и ненависти, оно было нравственным и религиозным долгом, нравственной эмоцией по преимуществу. Это видно из греческой трагедии. Таков, напр., Орест, весь одержимый нравственным долгом отмстить за смерть отца. Такова и трагедия Гамлета. Но древняя этика мести составляет очень глубокий слой нравственных эмоций человека, и она действует и в современном человеке, прошедшем через христианство. В нравственном различении, оценке, суждении и суде есть элемент трансформированной первобытной мести. «Добрый», сам того не замечая, в сущности, хочет мстить «злому», хотя бы эта месть была совсем не кровавой. Древнее нравственное суждение не считало возможным оставить преступления без наказания, оно страшилось этого. Наказание же и было местью, идея наказания рождалась из мести. Наказывающий есть мститель. Эта идеализация и сублимация мести как религиозного и нравственного долга находит свое метафизическое завершение и увенчание в идее ада. Первобытное нравственное сознание есть сознание родовое и социальное. В нем нравственным субъектом является род, а не личность. И месть, как нравственный акт, есть акт родовой, она совершается родом и по отношению к роду, а не личностью и по отношению к личности. Родовая месть есть самый характерный нравственный феномен древнего человечества, и она остается в христианском человечестве, поскольку древняя природа в нем не просветлена и не преображена. Инстинкт и психология родовой мести, столь противоположные христианству, переходят в своеобразное понимание чести – должно защищать свою честь и честь своего рода с оружием в руках, через пролитие крови. Оскорбление чести должно быть смыто кровью. Род внушает благоговейный ужас. С этим связан и страх кровосмешения, который преследует человека с давних времен. Кровосмешение Эдипа, соединение с матерью было пределом ужаса. В нем человек как бы возвращается туда, откуда изошел, т. е. отрицает факт рождения, восстает против закона родовой жизни. Древняя месть совсем не связана с личной виной. Месть и наказание не направлены прямо на того, кто лично виновен и ответствен. Понятие личной вины и ответственности образовалось гораздо позже. Родовая месть безлична. Когда родовая месть переходит к государству и государство делается субъектом мести и наказания, начинает развиваться идея личной вины и ответственности. Закон, всегда носящий социальный характер, требует победы над первобытным хаосом инстинктов, но хаос инстинктов вгоняется законом внутрь, он не побеждается и не просветляется им. И в человеке XX в. остаются эти первобытные хаотические инстинкты. Это обнаружила мировая война и коммунистическая революция. Месть, которая сначала была нравственным и религиозным долгом, после христианского откровения становится безнравственным, хаотическим инстинктом человека, который он должен побеждать новым законом. Древнее насилие клана и рода над человеком, установившее неисчислимое количество табу, запретов и вызывающее страхи и ужасы, из нравственного закона, каким оно было в древние времена, переходит в атавистические инстинкты, с которыми должно бороться более высокое нравственное сознание. Это одна из существенных истин социальной этики. Общество изначально смиряет, обуздывает, дисциплинирует инстинкты человека, и потом то, что оно вложило в человека для его обуздания, превращается в хаотические инстинкты на более высоких ступенях нравственного сознания. Так прежде всего происходило с местью. Человека лишали свободы, как существо, одержимое греховными инстинктами. Но социальное обуздание свободы обратилось в инстинкт властолюбия и тирании. Предрассудки, инерция и насилия каст, пережитки древнего общественного быта некогда были обузданием хаоса, установлением общественного космоса, но они превратились в инстинкты, мешающие свободному социальному устроению человечества. Обнаруживается коренная двойственность закона в нравственной жизни человечества – он обуздывает инстинкты и создает порядок, и он же вызывает инстинкты, мешающие созданию нового порядка. Это обнаруживает бессилие закона.