Кризис сознания: сборник работ по «философии кризиса»
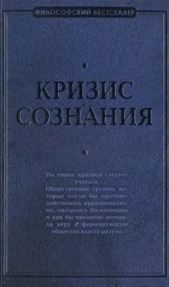
Кризис сознания: сборник работ по «философии кризиса» читать книгу онлайн
На опыте кризиса следует учиться. Деструктивное воздействие событий последнего периода заключалось совсем не в том, что ряд групп и слоев, у которых и раньше можно было предполагать латентное господство иррациональных импульсов, теперь открыто их декларировали, а в том, что другие группы, которые могли бы противодействовать иррационализму, оказались беспомощны и как бы внезапно потеряли веру в формирующую общество власть разума…
http://fb2.traumlibrary.net
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вовсе не само собой разумеется, что произведение искусства, как обычно полагают академики, должно содержать «человеческое» ядро, на которое музы наводят лоск. Это прежде всего значило бы сводить искусство к одной только косметике. Ранее уже было сказано, что восприятие «живой» реальности и восприятие художественной формы несовместимы в принципе, так как требуют различной настройки нашего аппарата восприятия. Искусство, которое предложило бы нам подобное двойное видение, заставило бы нас окосеть. Девятнадцатый век чрезмерно окосел; поэтому его художественное творчество, далекое от того, чтобы представлять нормальный тип искусства, является, пожалуй, величайшей аномалией в истории вкуса. Все великие эпохи искусства стремились избежать того, чтобы «человеческое» было центром тяжести произведения. И императив исключительного реализма, который управлял восприятием в прошлом веке, является беспримерным в истории эстетики безобразием. Новое вдохновение, внешне столь экстравагантное, вновь нащупывает, по крайней мере в одном пункте, реальный путь искусства, и путь этот называется «воля к стилю».
Итак, стилизовать — значит деформировать реальное, дереализовать. Стилизация предполагает дегуманизацию. И наоборот, нет иного способа дегуманизации, чем стилизация. Между тем реализм призывает художника покорно придерживаться формы вещей и тем самым не иметь стиля. Поэтому поклонник Сур-барана, не зная, что сказать, говорит, что у его полотен есть характер, — точно так же характер, а не стиль присущ Лукасу или Соролье, Диккенсу или Гальдосу. Зато XVIII век, у которого так мало характера, весь насыщен стилем.
Новые художники наложили табу на любые попытки привить искусству «человеческое». «Человеческое», комплекс элементов, составляющих наш привычный мир, предполагает иерархию трех уровней. Высший — это ранг личности, далее — живых существ и, наконец, неорганических вещей. Ну что же, вето нового искусства осуществляется с энергией, пропорциональной иерархической высоте предмета. Личность, будучи самым человеческим, отвергается новым искусством решительнее всего. Это особенно ясно на примере музыки и поэзии.
От Бетховена до Вагнера основной темой музыки было выражение личных чувств. Лирический художник возводил великие музыкальные здания, с тем чтобы заселить их своим жизнеописанием. В большей или меньшей степени искусство было исповедью. Поэтому эстетическое наслаждение было неочищенным. В музыке, говорил еще Ницше, страсти наслаждаются самими собою. Вагнер привносит в «Тристана» свой адюльтер с Везендонк, и, если мы хотим получить удовольствие от его творения, у нас нет другого средства, как самим, на пару часов, превратиться в любовников. Эта музыка потрясает нас, и, чтобы наслаждаться ею, нам нужно плакать, тосковать или таять в неге. Вся музыка от Бетховена до Вагнера — это мелодрама.
Это нечестно, сказал бы нынешний художник. Это значит пользоваться благородной человеческой слабостью, благодаря которой мы способны заражаться скорбью или радостью ближнего. Однако способность заражаться вовсе не духовного порядка, это механический отклик, наподобие того, как царапанье ножом по стеклу механически вызывает в нас неприятное, судорожное ощущение. Дело тут в автоматическом эффекте, не больше. Не следует смех от щекотки путать с подлинным весельем. Романтик охотится с манком: он бесчестно пользуется ревностью птицы, чтобы всадить в нее дробинки своих звуков. Искусство не может основываться на психическом заражении, — это инстинктивный бессознательный феномен, а искусство должно быть абсолютной проясненностью, полуднем разумения. Смех и слезы эстетически суть обман, надувательство. Выражение прекрасного не должно переходить границы улыбки или грусти. А еще лучше — не доходить до этих границ. «Toute maîtrise jette le froid» [25](Малларме).
Подобные рассуждения молодого художника представляются мне достаточно основательными. Эстетическое удовольствие должно быть удовольствием разумным. Так же как бывают наслаждения слепые, бывают и зрячие. Радость пьяницы слепа; хотя, как все на свете, она имеет свою причину — алкоголь, — но повода для нее нет. Выигравший в лотерею тоже радуется, но радуется иначе — чему-то определенному. Веселость пьянчужки закупорена, замкнута в себе самой — это веселость, неизвестно откуда взявшаяся, для нее, как говорится, нет оснований. Выигравший, напротив, ликует именно оттого, что отдает отчет в вызвавшем радость событии, его радость оправданна. Он знает, отчего он веселится, — это зрячая радость, она живет своей мотивировкой; кажется, что она излучается от предмета к человеку. [Причинность и мотивация суть, стало быть, два совершенно различных комплекса. Причины состояний нашего сознания не составляют с ними единого целого, — их выявляет наука. Напротив, мотивы чувств, волевых актов и убеждений нерасторжимы с последними.]
Все, что стремится быть духовным, а не механическим, должно обладать разумным и глубоко обоснованным характером. Романтическое творение вызывает удовольствие, которое едва ли связано с его сущностью. Что общего у музыкальной красоты, которая должна находиться как бы вне меня, там, где рождаются звуки, с тем блаженным томлением, которое, быть может, она во мне вызовет и от которого млеет романтическая публика? Нет ли здесь идеального quid pro quo [26]? Вместо того чтобы наслаждаться художественным произведением, субъект наслаждается самим собой: произведение искусства было только возбудителем, тем алкоголем, который вызвал чувство удовольствия. И так будет всегда, пока искусство будет сводиться главным образом к демонстрации жизненных реальностей. Эти реальности неизбежно застают нас врасплох, провоцируя на сочувствие, которое мешает созерцать их в объективной чистоте.
Видение — это акт, связанный с отдаленностью, с дистанцией. Каждое из искусств обладает проекционным аппаратом, который отдаляет предметы и преображает их. На магическом экране мы созерцаем их как представителей недоступных звездных миров, предельно далеких от нас. Когда же подобной дереализации не хватает, мы роковым образом приходим в состояние нерешительности, не зная, переживать нам вещи или созерцать их. Рассматривая восковые фигуры, все мы чувствуем какое-то внутреннее беспокойство. Это происходит из-за некой тревожной двусмысленности, живущей в них и мешающей нам в их присутствии чувствовать себя уверенно и спокойно.
Если мы пытаемся видеть в них живые существа, они насмехаются над нами, обнаруживая мертвенность манекена; но, если мы смотрим на них как на фикции, они словно содрогаются от негодования. Невозможно свести их к предметам реальности. Когда мы смотрим на них, нам начинает чудиться, что это они рассматривают нас. В итоге мы испытываем отвращение к этой разновидности взятых напрокат трупов. Восковая фигура — это чистая мелодрама.
Мне думается, что новое художественное восприятие руководится чувством отвращения к «человеческому» в искусстве — чувством весьма сходным с тем, которое ощущает человек наедине с восковыми фигурами. В противовес этому мрачный юмор восковых фигур всегда приводил в восторг простонародье. В данной связи зададимся дерзким вопросом, не надеясь сразу на него ответить: что означает это отвращение к «человеческому» в искусстве? Отвращение ли это к «человеческому» в жизни, к самой действительности или же как раз обратное — уважение к жизни и раздражение при виде того, как она смешивается с искусством, с вещью столь второстепенной, как искусство? Но что значит приписать «второстепенную» роль искусству — божественному искусству, славе цивилизации, гордости культуры и т. д.? Я уже сказал, читатель, — слишком дерзко об этом спрашивать, и пока что оставим это.
У Вагнера мелодрама достигает безмерной экзальтации. И, как всегда, форма, достигнув высшей точки, начинает превращаться в свою противоположность. Уже у Вагнера человеческий голос перестает быть центром внимания и тонет в космическом. Однако на этом пути неизбежной была еще более радикальная реформа. Необходимо было изгнать из музыки личные переживания, очистить ее, довести до образцовой объективности. Этот подвиг совершил Дебюсси. Только после него стало возможно слушать музыку невозмутимо, не упиваясь и не рыдая. Все программные изменения, которые произошли в музыке за последние десятилетия, выросли в этом новом, надмирном мире, гениально завоеванном Дебюсси. Это превращение субъективного в объективное настолько важно, что перед ним бледнеют последующие дифференциации. Дебюсси дегуманизировал музыку, и поэтому с него начинается новая эра звукового искусства.


























