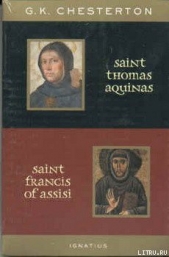Святой Франциск Ассизский
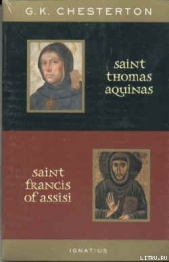
Святой Франциск Ассизский читать книгу онлайн
Книга написана в 1923 г . Переведена по изданию Chesterton G. К. St. Francis of Assisi . N. Y., 1957. Русский перевод окончен весной 1963 года. Издан YMCA—Press в Вестнике РСХД ( 1975 г .), с пропусками и опечатками, т. к. печатался по самиздатской рукописи. Публикуемый текст выверен и подготовлен к печати в 1988 г ., впервые на русском языке опубликован в журнале «Вопросы философии» № 1, 1989. Перевод Н. Л. Трауберг. Комментарии Т. В. Вихорь, Л. Б. Сумм.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В этом и была суть разлада. За частным вопросом скрывался другой, гораздо более глубокий, и мы ощущаем его, читая о спорах. Изложим истину хотя бы так: святой Франциск был настолько велик и необычен, что мог бы основать новую религию. Многие его последователи были в той или иной мере готовы счесть его именно основателем религии. Они хотели, чтобы францисканский дух вырвался из христианства, как христианский дух вырвался из Израиля; чтобы он затмил христианство, как оно затмило Израиль. Святой Франциск — блуждающий огонь на дорогах Италии — должен был разжечь пожар, в котором сгорела бы христианская цивилизация. Это и озаботило папу. Он решал, христианству ли впитать Франциска или Франциску — христианство, и решил правильно, ибо Церковь могла включить все, что есть во францисканстве хорошего, но францисканцы не могли включить все, что есть хорошего в Церкви.
Всякий, кто не видит, что католический здравый смысл шире, чем францисканский пыл, не понимает очень важной вещи, связанной с лучшими свойствами того, кем они по праву восхищаются. Франциск Ассизский, как мы говорили много раз, был поэтом; а значит это, что он был из тех, кто выражает себя. У таких людей даже их недостатки идут им на пользу. Поэт обязан своей неповторимостью и тому, что в нем есть, и тому, чего в нем нет. Но в рамку, окаймляющую портрет человека, нельзя втиснуть все человечество. В святом Франциске, как и во всех гениях, даже отрицательное — положительно, ибо это часть их личности. Прекрасный тому пример — его отношение к учености и науке. Он мало знал и, в сущности, отрицал книги и книжность. Со своей точки зрения, с точки зрения своего дела он был совершенно прав. Он хотел быть таким простым, чтобы деревенский дурачок его понял, — в этом суть его вести. Он взглянул впервые на мир, который мог быть создан только что, утром, — в этом суть его видения. Кроме дней творения, рая, Рождества и Воскресения, у мира не было истории. Но так ли уж хорошо, так ли необходимо, чтобы истории не было у Церкви?
Наверное, я прежде всего хотел показать, что святой Франциск ходил по миру, как Божье прощение. Он пришел — и человек получил право примириться не только с Богом, но и с природой и, что еще труднее, с самим собой, ибо приход его означал, что ушло застоявшееся язычество, отравившее античность. Он открыл ворота Темных веков, как ворота тюрьмы или чистилища, где люди очищали себя покаянием в пустыне или подвигами в бою. Он передал им, что они могут начать сначала, то есть разрешил им забыть. Люди могли открыть новую, чистую страницу и вывести на ней большие первые буквы, простые и яркие, как буквицы средневековой рукописи; но для такой детской радости было нужно, чтобы они перевернули страницу, запятнанную кровью и грязью. Я уже говорил, что в стихах первого итальянского поэта нет ни следа языческой мифологии, которая надолго пережила язычество. Быть может, он, единственный в мире, не слышал о Вергилии [123]. В сущности, так оно и должно быть, ведь он был первым итальянским поэтом. Он и должен называть соловья соловьем, ибо песнь его не запятнана ужасными преданиями об Итисе и Прокне [124]. Да, вполне правильно и даже хорошо, если святой Франциск не слышал о Вергилии. Но хотим ли мы на самом деле, чтобы о Вергилии не слышал Данте? Хотим ли мы, чтобы Данте не знал языческой мифологии? Ведь у Данте эти предания и впрямь служат правоверию; могучие языческие образы, скажем, Минос или Харон [125], лишь наводят на мысль о великой естественной религии, с самого начала, позади всей истории, возвещающей о вере. Хорошо, что в Dies irae [126] есть не только Давид [127], но и Сивилла [128]. Конечно, святой Франциск сжег бы все листы Сивиллиных книг ради одного листка с соседнего дерева. Но мы рады, что у нас есть Dies irae, а не только Гимн Солнцу.
Святой Франциск пришел в мир как приходит младенец в темный дом, снимая с него проклятие. Он растет, ничего не зная о минувшей беде, и побеждает ее своей невинностью. Не только невинность необходима ему, но и неведение; он должен играть в зеленой траве, не догадываясь, что под нею зарыт убитый, и карабкаться на яблоню, не зная, что кто-то на ней повесился. Такое прощение и примирение принес миру свежий ветер францисканского духа. Но это не значит, что весь мир должен был перенять это неведение. А многие францисканцы хотели бы, чтобы он перенял. Довольно многие францисканцы хотели, чтобы францисканская поэзия изгнала прозу бенедиктинцев. Для ребенка из нашей притчи это вполне естественно. Для ребенка мир должен быть большой свежевыбеленной детской, на стенах которой он может рисовать мелками те неуклюжие, яркие картинки, с которых началось все наше искусство. Он вправе считать свою детскую самой лучшей комнатой, какая только бывает. Но в Доме Господнем обителей много [129].
Всякая ересь была попыткой сузить Церковь. Если бы францисканское движение стало новой религией, это была бы узкая религия. Там, где она превращалась в ересь, это и была узкая ересь; и делала она то, что всегда делает ересь, — противопоставляла настроение разуму. Настроение было поначалу чистым и кротким, как у святого Франциска, но не оно одно заполняет разум Бога и даже разум человека. Да и само настроение вырождалось, оно превращалось в безумие. Сектанты, названные Fraticelli [130], сочли себя единственно верными сыновьями святого Франциска и отказались от уступок Риму во имя того, что они именовали истинным замыслом Ассизи. Очень скоро эти францисканцы стали яростными, как флагелланты [131]. Они создавали новые и новые, все более жестокие запреты — они пришли к отрицанию брака, то есть к отрицанию человечества. Они объявили войну человечности во имя самого человечного из святых. В сущности, они погибли не от преследований. Многих из них в конце концов переубедили, а горсточка упорных уже ничем не походила на святого Франциска. Беда их в том, что они были мистики, мистики — и все. Мистики, а не католики; мистики, а не христиане; мистики, а не люди. Они разложились, расточились, ибо не внимали разуму. А какими бы дикими ни казались нам действия святого Франциска, он всегда зависел от разума, был связан с ним невидимой и неразрывной нитью.
Великий святой был здоров; и самый звук этого слова, как низкий аккорд арфы, возвращает нас к тому, что важнее его почти безумных чудачеств. Он не был просто эксцентриком, ибо всегда стремился к центру. Он блуждал и кружил по лесу, но шел он всегда домой. Его смирение не позволяло ему стать ересиархом; но и человечность его не позволяла ему впасть в крайность. Одно чувство юмора, которым просолены все истории о его чудачествах, уже не дало бы ему застыть в торжественном самодовольстве сектанта. Он всегда был готов признать, что не прав; и его последователи признали его кое в чем неправым, чтобы доказать, что он прав. Это они, настоящие последователи, доказали его правоту и разнесли его правду по миру. Францисканский орден не окаменел и потому не рассыпался в прах. Оплот ордена, его ствол, принес плоды. Среди верных сынов — Бонавентура, великий мистик, и Бернардино [132], народный проповедник, вернувший в Италию благочестивые буффонады скомороха Божия. Среди них — Раймонд Луллий со своим странным учением и смелыми планами обращения мира. Среди них — Роджер Бэкон [133], первый натуралист, чьи опыты со светом и водой просты и прекрасны той красотою, которая отличает начало естественных наук; Бэкон, которого самые упрямые материалисты признали отцом науки. Поистине, эти великие люди совершали для мира великие, полезные и очень разные дела; но по смелости их, по их простодушию мы узнаем в них детей святого Франциска.