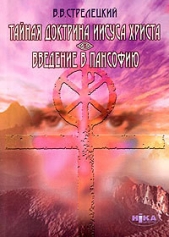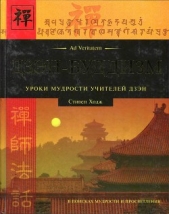Две жизни (Часть 3, том 1 и 2)

Две жизни (Часть 3, том 1 и 2) читать книгу онлайн
Часть 3, т. 1 и 2.
Книга "Две жизни" записана Конкордией Евгеньевной Антаровой через общение с действительным Автором посредством яснослышания - способом, которым записали книги "Живой Этики" Е.И.Рерих и Н.К.Рерих, "Тайную Доктрину" - Е.П.Блаватская. Единство Источника этих книг вполне очевидно для лиц, их прочитавших. Учение, изложенное в книгах "Живой Этики", как бы проиллюстрировано судьбами героев книги "Две жизни". Это тот же Источник Единой Истины, из которого вышли Учения Гаутамы Будды, Иисуса Христа и других Великих Учителей. Впервые в книге, предназначенной для широкого круга читателей, даются яркие и глубокие Образы Великих Учителей, выписанные с огромной любовью, показан Их самоотверженный труд по раскрытию Духа человека. Книга, первоначально предназначавшаяся для очень узкого круга учеников, получавших через К.Е.Антарову руководство Великих Учителей, издается впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Глава 2 Второй день в Общине. Мы навещаем карлика. Подарки араба. Франциск
Заснув с вечера с большим трудом, я проспал всю ночь так крепко, что даже ни разу не просыпался, пока Ясса не разбудил меня, сказав, что И. уже поджидает меня идти купаться. Едва открыв глаза, сразу же впившись в чудесный пейзаж, я с трудом сообразил, где нахожусь. От длительного путешествия, превратившегося в привычную манеру жить, я научился считать, что каждый день - это только своего рода поход. А в эту минуту я сразу осознал, что приехал сюда надолго, что я наконец дома. Быстро надев свой более чем несложный туалет, я ясно отдал себе отчет, что не могу и не должен терять ни минуты попусту, в бездействии. Что за весь вчерашний день, если не считать нескольких маленьких знаний по ботанике, я ничего не приобрел и ровно ничего не выполнил из своих обетов по изучению восточных языков. Что же касается надписи в комнате Али, которую я отчетливо видел перед собой, стоило мне только сосредоточиться на ней мыслью, как всего меня наполняло чувство радости, что язык пали станет мне ключом к тому откровению, что написал Али на стенах своей комнаты. Весь под впечатлением желания скорей, скорей учиться, я ворвался бурей к И., который что-то писал, сидя за столом, и выпалил сразу: - И., дорогой, я уже весь вчерашний день потерял зря. Дайте мне скорее книги, чтобы я мог учить необходимые мне языки. Прежде всего, конечно, пали, а потом и остальные. Брат Николай говорил мне, что я способен к языкам. Я тогда, правда, не болел так много, но, может быть, мои способности не заглохли. Дайте только скорее книгу. И. спокойно положил перо на стол, посмотрел, улыбаясь, на мои волосы, которые я забыл причесать, на небрежно подвязанные сандалии и ответил: - Очень похвально твое прилежание, Левушка. Но кто же тебя освободил от самых элементарных обязанностей быта, в условностях которого ты живешь сейчас на земле? Твоя голова растрепана, на тесемки туфель ты наступаешь, и почему встречающиеся тебе люди должны страдать в своих эстетических чувствах, натыкаясь среди такой дивной красоты природы на неряшливо одетое, непричесанное существо. В твоей комнате стоит большое зеркало не для того, чтобы ты проходил мимо него, а для того, чтобы ты выходил из своей комнаты на люди, приведя в полный порядок свою внешность. Это первая из условностей, от которой тебя никто не освобождал. Не о себе ты должен думать, оправляя перед зеркалом складки своего платья, но о людях, для которых твоя внешность может быть предметом раздражения, если неряшливость бьет в глаза или ты смешон в своей одежде. Запомни, друг, что в нищету впадают чаще всего неряшливые. И даже высокоразвитым духовно их неряшливость мешает продвигаться вперед в духовном пути. Всякая неприбранная комната отвратительна высоко развитому и чистому человеку. Вторая условность: "здравствуй", которое говорят люди друг другу, - кто же освободил тебя от этой общепринятой вежливости в Общине? Здесь ты еще глубже должен понять это слово, как привет любви, как поклон огню и Свету в человеке. Это не только простая условность внешней вежливости для тебя, но остов твоего собственного добжелательства, которым ты обливаешь всего человека в момент встречи с ним. Начинай, мой дорогой друг, через все привычные людям щели их условного общения друг с другом вносить свое высокое благородство. Становись звеном духовного канала, общаясь в тех формах, которые не отталкивают людей и не затрудняют восприятие твоего образа, а привлекают их. Мне было очень совестно за мое легкомыслие. Я взглянул на себя в зеркало и совсем переконфузился. Мои отросшие кудри торчали во все стороны и делали меня похожим в моей длинной белой одежде, надетой и подпоясанной кое-как, на юродивого. Что же касается И., к которому я ворвался, как буря, не постучавшись и даже не извинившись, что я помешал ему заниматься, - то только сейчас я понял, как эгоистические мысли о себе одном закрыли все, что меня окружало. Мне что-то понадобилось, Я сорвался в погоню за ним, а что делалось вокруг - до того и дела мало. Я готов был уже броситься вон из комнаты, совершенно расстроенный, как ласковая рука И. меня обняла. - Не спеши сейчас огорчаться, Левушка, как минуту назад спешил за книгой, забыв все на свете. Чтобы победить и добиться чего-то, надо видеть каждую минуту все вокруг себя, а не выключаться из окружающих условий, видя только один узкий сектор своих действий и рассматривая мир только с высоты своей колокольни, своего личного "Я". Все идут разными путями, но ступени духовного развития у всех одни и те же. Здесь с первых дней обрати свое внимание на неизменную вежливость. Ты и здесь встретишь немало людей, которые покажутся тебе и грубоватыми и чудаковатыми. Но на это не устремляй внимания, а помни, что твой путь сейчас - путь такта и обаяния. И чтобы его достичь, тебе надо развить вежливость и спокойствие, сделать их своей неизменной привычкой. Иди, мой дорогой, наведи красоту и приходи через десять минут. Я кончу письмо, и мы пойдем купаться. Я убежал к себе, но теперь я уже так не доверял своим эстетическим способностям, что вызвал Яссу и просил его оглядеть меня с головы до ног. - Ясса, миленький, я очень неуравновешенный человек. Не выпускайте меня из комнаты, пока не осмотрите меня хорошенько. Я никак не постигну, как завязываются эти сандалии, - молил я моего доброго слугу. Ясса подал мне другие, закрытые сандалии, говоря, что в них не проникает пыль, да и застегнуть в них надо только две пуговицы. Он обещал мне упростить завязки в другой обуви, мигом подпоясал меня красивым шнуром и уверил, что теперь я причесан и одет как самый настоящий кавалер. Я вздохнул, мысленно пожаловался кому-то, что вчера плохо закончил, а сегодня так же плохо начал мой день, - и постучал в дверь к И. Через минуту мы шли к озеру, накинув на головы мохнатые простыни. Хотя я уже вчера шел по этой дороге, пальмы, магнолии, лимоны и апельсины, бамбуки и гигантские тополя, кедры и платаны - все было уже мне знакомо, но тем не менее я никак не мог взять в толк, что передо мной сама живая жизнь, а не могучая декорация. Наше купанье совершилось без всяких помех и встреч. - Не хочешь ли, Левушка, пройти со мной к нескольким больным, которых Кастанда просил меня навестить? Это недалеко, сейчас еще рано, мы успеем вовремя вернуться к завтраку. Я, разумеется, был очень рад и счастлив быть с И. всюду, где ему угодно, и, кроме того, стремился узнать новые места. Мы перешли через мост речку повыше озера и углубились по дорожке не в парк, а в самый настоящий лес. Но как этот лес был непохож ни на что, что до сих пор я привык называть этим словом. Стволы высоченных, толстенных деревьев, где ветви равнялись хорошей русской сосне или многолетней ели по своему объему, несли здесь такие тенистые кроны, что на дорожке, по которой мы шли, было совсем темно. Местами лианы совсем сплетались такими плотными цветущими гирляндами, что образовывали непроницаемые завесы. Здесь было прохладно, как в гроте, даже сыровато. Я уже хотел сказать, что, вероятно, такие леса полны тигров и шакалов, как дорожка перед нами сразу просветлела, расширилась и превратилась в большую круглую поляну. На ней стояло несколько белых домиков, похожих на украинские мазанки, как мне показалось сначала. Но, подойдя ближе, я увидел, что они сложены из шершавого камня, пористого, с блестящими кристаллами, очень мелкими. Когда на них падал луч солнца, они напоминали вату, обсыпанную бертолетовой солью, под детскими елками. Навстречу нам вышла женщина лет сорока, крупная, довольно миловидная, в белой косынке, белом платье и таком же полотняном переднике, на котором был нашит широкий красный крест. - Здравствуйте, сестра Александра. Кастанда просил меня проведать Вашего больного, которого Вам доставили вчера. Дали ли Вы ему лекарство, которое я Вам послал? - Да, доктор И. Бедняжка успокоился и заснул после вторичного приема. Раны я ему слегка перевязала, как Вы приказали. Сестра Александра провела нас в самый отдаленный домик. В чистой просторной комнате стояло несколько белоснежных детских кроваток, но занята была только одна, и возле нее сидела тоненькая девушка небольшого роста, в такой же точно одежде, как и сестра Александра. - Это наша новенькая сестра, только что окончившая курсы сестер милосердия. - И сестра Александра представила нам очаровательное существо. - Сестра Алдаз индуска, она умудрилась своими способностями покорить даже нашего милого старого ворчуна - директора курсов, не только всех преподавателей. Алдаз посмотрела на нас своими темными глазами, большими, светящимися, и напомнила мне икону греческой царевны Евпраксии, которую я видел в одной из древних церквей и которой долго любовался. Мы подошли к детской кроватке, на которой я ожидал увидеть ребенка, искусанного собакой, судя по предшествующему разговору. Каково же было мое удивление, когда на кроватке я увидел спящим маленького, сморщенного... лилипута. Он был такой старенький и несчастный, что я, разумеется, словиворонил, да так и застыл. Я, должно быть, представлял собой преуморительное зрелище, потому что Алдаз, случайно оглянувшись на меня, не смогла сдержать- смеха, и он зазвенел на всю комнату. Сестра Александра строго взглянула на Алдаз, но, увидав меня, и сама едва удержалась от смеха. Смех Алдаз разбудил карлика. Он открыл свои маленькие глазки, и еще раз я превратился в соляной столб. Глаза карлика были красного цвета, точно два горящих уголька. И., точно не видя ничего и никого, кроме своего больного, наклонился над карликом, боязливо на него смотревшим. И. сказал ему несколько очень для меня странно звучавших слов. Вот и еще один язык, который я не понимал и который, вероятно, тоже надо было вы учить. Если здесь живет несколько родов карликов да еще несколько сект индусов, наречия которых все разные, то, пожалуй, мне не догнать И. даже в языках. Занятый этой мыслью, я отвлекся вниманием от больного, а когда я снова посмотрел на него, то еле удержал крик ужаса. На маленьком обнаженном теле зияли три раны. Одна тянулась от бедра до самого колена, вторая - от горла до живота и третья от ключицы до локтя. Тело на ранах было вырвано, точно чьи-то когти его терзали. И. дал несчастному пилюлю и капли. Обе сестры поддерживали тело маленького страдальца, а мне И. велел поддержать его головку, которая падала от слабости. Облив какой-то шипящей жидкостью развороченные раны, И. ловко наложил повязки. Очевидно, карлик не страдал от прикосновения его прелестных рук. Он немного окреп и улыбнулся своему доктору дружески. Когда его положили в другую кроватку, у окна, чтобы он мог любоваться видом поляны, он радостно поднял здоровую руку и, показывая ею на Алдаз, что-то сказал И. на смешном щелкающем наречии. На этот раз я не обеспокоился своею невежественностью, так как обе сестры, как и я, не поняли ни слова и с удивлением смотрели на И. И. объяснил сестрам, что больной просит, чтобы веселый колокольчик, как он прозвал Алдаз, не уходила от него. И. приказал сейчас же напоить больного теплым молоком с бисквитами и обратился ко мне: - Сможешь ли ты найти дорогу, чтобы принести после завтрака этому бедняжке лекарство? Или, если думаешь, что тебя съедят в лесу тигры, мне надо поискать другой способ доставки. - Смогу найти дорогу и уже понял, что тигров здесь нет. Я внутренне надулся: зачем И. смеется надо мной в присутствии очаровательной Алдаз? Но Алдаз была вся поглащена тем, как развеселить больного, щебетала ему что-то, чего он не понимал, но интонация ласкового женского сострадания доходила до его сердца. - Очень хорошо, Левушка. Через два часа, сестра Александра, мой друг Левушка принесет Вам новое лекарство. Вы его смешаете с молоком и медом и будете давать через каждые полчаса по четверти маленького стакана. Кроме шоколада, бисквитов, киселя и молока - никакой пищи. К вечеру я снова зайду. Если будет обострение болезненности, дайте снова вчерашнее лекарство. Мы подошли к карлику, он протянул нам свою крошечную, горевшую от жара ручку, потом преуморительно приставил крохотный пальчик ко лбу и сказал: "Макса". Он вопросительно уставился на меня своими красными хитрыми глазками. И. перевел мне его слово и жест. Он спрашивал, как зовут меня, и объяснил, что его зовут Макса. И. велел мне приставить так же палец ко лбу и сказать ему мое имя. Когда я в точности все исполнил и карлик узнал, что меня зовут Левушкой, он по-детски засмеялся, что-то залопотал и защелкал, что И. снова перевел мне как изъявление его дружбы и удовольствия. Хотя я был уверен, что найду дорогу, все же старался очень внимательно запоминать все повороты дорожки. - Я задержался здесь дольше, чем предполагал. Я уже не успею навестить других до завтрака. Хочешь ли ты, Левушка, быстро позавтракать и сходить вместе со мной еще к двум больным? А затем ты бы мог снести лекарство Максе. Или предпочитаешь это время просидеть за книгами? У И. был совершенно серьезный вид, и никакой искорки юмора не сверкало в его глазах. - Дорогой мой, родной И.! Если только можно мне быть подле Вас, возьмите меня с собой. Я очень мало могу помогать Вам, но разрешите мне быть Вашим посыльным, Вашим носильщиком. Я хочу идти в своей жизни здесь так, как Вы видите и знаете. Если я так жажду учиться, то ведь только для того, чтобы скорее стать более достойным Вас. - Ты движешься вперед, Левушка, очень быстро, быстрее, чем возможно для твоего организма. И только поэтому я тебя придерживаю. Хотя мы с тобой только что купались, но после этого больного надо и душ взять, и одежду сменить, раньше чем входить в общую столовую. Я тебе сегодня же расскажу, в чем здесь дело и кто такой Макса. Пока И. брал душ, я стоял на балконе и издали видел, как женские фигуры, прикрытые длинными простынями, двигались под горячим солнцем к купальням. Жара мне показалась злее вчерашней, и я с удовольствием думал, как пойду тенистым, прекрасным лесом и увижу не менее прекрасную Алдаз. Наконец, приведя себя после душа особенно тщательно в порядок и подвергшись осмотру Яссы, я решил спуститься вниз, где слышал голос И. Когда мы вошли в утреннюю столовую, почти все уже садились на места. К нам подошел, торопясь, Кастанда, спросил о состоянии Максы и прибавил еще одну просьбу: посетить Аннинова. Его слуга приходил и сказал Кастанде, что ночью у его господина был сильный сердечный припадок. За соседним столом я увидел снова Андрееву и Ольденкотта, место же леди Бердран было пусто. Рядом с пленившей меня художницей Скальради я увидел новое лицо. И лицо это немедленно завладело всем моим вниманием. Человек, сидевший возле художницы, не был красавцем. Но где бы он ни был, кто бы его ни окружал - всюду он был бы заметен. Сложен он был так пропорционально, что высокий его рост даже не казался таким высоким и, только когда взгляд падал на тех, кто его окружал, можно было отдать себе отчет, как он на самом деле высок. Голова с проседью, черные брови, большие голубые глаза с длинными черными ресницами, красиво вырезанный рот и безукоризненные зубы, хорошо видные при часто мелькавшей улыбке. Во всех его движениях, в манере слушать собеседника, в красивых руках - во всем было изысканное благородство. Что-то особенно меня в нем поразило. Человек этот был прост, очевидно привык привлекать к себе внимание и нисколько этим не смущался, но я ясно видел, что он скромен, добр, умен и нисколько не горд: Несколько раз он посмотрел на И. Я понял, что он знает, кто такой И., но с ним незнаком. Сидевший рядом мною Альвер шепнул мне, что это один из знаменитейших артистов, имя которого знает весь мир, - Станислав Бронский, чех. Мне казалось, что Бронский, с такой любезностью и вежливоcтью разговаривавший со своими соседями, все чаще бросает взгляды на И., и к концу завтрака мне даже показалось, что на его подвижном и выразительном лице я подметил мелькавшее беспокойство. И я не ошибся. Когда мы окончили завтрак и уже выходили, за нами послышались ускоренные шаги Кастанды, который просил И. остановиться на минуту. Кастанда извинился, что так много беспокоит И. с самого вчерашнего вечера. - Вы, конечно, не могли не заметить новое для Вас лицо, доктор И. Это артист Бронский, его прислал сюда Флорентиец. У него есть письмо к Вам, и он заранее был извещен, что Вы приедете на этих днях. Он пришел сюда из дальних домов Общины, вернее, примчался на мехари с одним арабом-проводником и со своим учеником, тоже артистом. Бронский просил меня познакомить его с Вами. Я обещают сделать это тотчас же после завтрака. Но вторичный посол от Аннинова меня задержал. У Аннинова второй припадок, леди Бердран все так же плоха. Андреева ухаживает за нею очень прилежно, но дело не двигается. Вдобавок и ученик Бронского заболел, выкупавшись в нижнем озере после путешествия по жаре. Я даже не знаю, о ком просить Вас раньше. У Кастанды был утомленный вид. Я подумал, что он чем-то сильно обеспокоен и, вероятно, не спал ночь. Он с мольбой смотрел на И., очевидно, чего-то не договаривал, но старался не выказывать своего беспокойства. -Не волнуйтесь, Кастанда, прежде всего познакомьте меня Бронским, так как его очень тревожит здоровье друга. Затем я пройду к леди Бердран, а тогда уже к Аннинову. Вы отпустите слугу пианиста, дайте, ему для больного вот эти капли, пусть Аннинов примет их на сахаре и ждет меня. Здесь как раз на один прием. При темпераменте Аннинова ему нельзя поручать самостоятельного лечения, он выпьет все сразу и будет удивляться своей полусмерти. И. подал Кастанде такой крошечный пузырек, что, сопоставив его с огромным ростом музыканта и его громаднейшей рукой, я невольно расхохотался. Мы повернули обратно и увидели у окна Бронского и Скальради, и я поразился, как печально было лицо артиста. Минуту назад полное жизни и энергии, оно было бледно и выражало страдание. Он все так же любезно слушал свою собеседницу, но взгляд его погас, точно его постигла внезапная неудача. Увидев, что мы подходим к нему, Бронский снова ожил, румянец разлился по его лицу, глаза загорелись, на губах мелькнула улыбка. Он сделал несколько шагов нам навстречу, низко поклонился И. и крепко, обеими руками, пожал протянутую ему руку И. - Вы беспредельно любезны, доктор И. Не нарушила ли моя просьба распорядок Вашего дня? Я так счастлив познакомиться с Вами, но счастье мое было бы омрачено, если бы я Вам в чем-либо помешал. Голос Бронского был довольно низкий, металлический, в произношении шипящих букв была чуть заметная какая-то подчеркнутость, что придавало его речи неподражаемое своеобразие и не мешало прелести его манеры говорить. Я смотрел и поражался, какая масса обаяния была в этом человеке! Белая индусская одежда очень ему шла, я так и представлял себе его верхом на мехари в бедуинском плаще. Вот была бы модель для художника! По обыкновению я зазевался и опомнился от голоса И., который говорил: - Это мой друг - Левушка. Он писатель. Вы его простите за рассеянность. Держу пари, что он уже нарисовал Ваш портрет в своем воображении, ввел Вас в какую-нибудь картину и забыл, где он и что с ним. Бронский протянул мне обе руки, улыбаясь и говоря, что сам страдает такой же живой фантазией, часто ставящей его в неловкое положение, потому что он теряет нить разговора. Я радостно ответил на его крепкое пожатие и сказал смеясь: - Это правда, я представил себе Вас мчащимся на мехари через пустыню в бедуинском плаще и мечтал, чтобы Вас так нарисовали. Что касается Вашей любезности, когда Вы сравниваете Вашу и мою фантазию, то тут мне сравнения не выдержать. Я бегу по моим образам бесплодно. Вы же превращаете их в жизнь и даете всему миру понимать через себя красоту и высокое благородство. Я преклоняюсь перед Вашей энергией и трудоспособностью, о которых мне сейчас рассказали. - Тот, подле которого Вы живете, не мог бы назвать Вас другом, если бы не видел в Вас творческой силы. В ваши годы я ничего еще не сделал, а Ваш рассказ я уже читал. И. отправил меня за аптечкой и просил Альвера проводить меня в тот домик, где жила леди Бердран. И когда мы с Альвером, взяв аптечку, вошли в холл домика, где жили Андреева и леди Бердран, мы увидели там И., Бронского и Кастанду, беседующими с Натальей Владимировной. - Нет, дело так не пойдет на лад, Наталья Владимировна. Леди Бердран только потому и больна, что Вы с нею и она не может противостоять Вашим вибрациям. Вы похожи на холодное озеро, и к Вам подходить близко могут только очень закаленные люди. Не только применять Ваш способ лечения к леди Бердран нельзя, но и ухаживать Вам за нею пока нельзя. И. говорил улыбаясь, но в серьезности его слов никто не мог сомневаться. Андреева казалась не то опечаленной, не то недоумевающей и недовольной. - Неужели Вы находите, И., что Ольденкотт, который считает своею обязанностью чуть ли не весь день не отходить от меня, закален против моих вибраций? Однако же он не болен? - сказала Андреева не очень спокойно, но, очевидно, сдерживая свой темперамент. - О да, мистер Ольденкотт так сильно закален в своей броне доброты и чистоты, что никакие - много сильнее Ваших - вибрации ему не страшны. Бронский молча наблюдал все происходившее вокруг. Мне было совершенно ясно, что он хотел попросить И. навестить его друга, но не решался, как вдруг И. обратился к нему: - Я попрошу Вас подождать меня здесь. Отсюда мы пройдем прямо к Вашему ученику. Вам же, Наталья Владимировна, на десять дней запрещаю посещать леди Бердран. И. сделал мне знак следовать за ним, и, провожаемые Кастандой, мы прошли в самый конец коридора, поднялись по винтовой лестнице во второй этаж и постучались в одну из крайних дверей. Дверь нам открыла молоденькая девушка-туземка в холщовом белом платье, какие я уже видел на сестрах милосердия, но без косынки на голове и с очень небольшим крестом, нашитым на переднике. Она оказалась дежурной ученицей курсов сестер милосердия. Леди Бердран была очень слаба и едва могла открыть глаза, когда мы с И. вошли к ней. Кастанду И. отпустил еще в коридоре, сказав, что дальше обойдется без него. Больная лежала на диване в белом халате и была так бледна, что казалась привидением. И. осторожно приподнял ее в сидячее положение и сказал что-то сестре на туземном языке. Та сейчас же вышла из комнаты. Мне же И. велел сделать смесь из нескольких пузырьков и капнул туда еще чего-то сам из аптечки Флорентийца. Капли закипели, я приподнял голову больной, а И. влил ей в рот лекарство. Оно не понравилось леди Бердран. Она застонала, почти вскрикнула, чем так меня напугала, что я едва не уронил ее прелестную головку. - Будь осторожен, друг, мы поспели вовремя. Сейчас у нее будут судороги, но благодаря лекарству они не будут смертельны. Держи теперь крепко обе ее руки, я придержу ноги, это не продлится долго. Я едва мог удержать руки больной, которая вырывала их с такой силой, какой можно было ожидать, пожалуй, от мужчины. Пот лил с меня градом, мне казалось, что я уже не удержу рвущихся рук, как напряжение судорог ослабло, и И. велел мне оставить руки больной. Я опустился на стул, точно после долгих часов рубки дров. Теперь И. взял руку леди Бердран и спросил: - Как Вы сейчас себя чувствуете? Леди Бердран открыла глаза, с удивлением посмотрела на И. и на меня, улыбнулась и ответила: -Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Но минуту назад мне казалось, что я умираю. Да и все эти дни у меня было такое ощущение, точно из меня уходит жизненная сила. Особенно когда добрая Наталья Владимировна бывала близко ко мне, у меня кружилась голова и мне казалось, что все мои силы тянутся к ней. Я знаю, что это моя чистейшая фантазия, но иначе я не умею описать Вам мое состояние. - Если бы я предложил Вам временно переселиться в корпус, где живем мы с Левушкой? Там есть отдельная и отличная северная комната, и мне было бы удобно наблюдать за Вами. Согласны ли Вы перебраться туда? На ее лице, и так всегда печальном, появилось выражение крайнего замешательства. Она ответила не сразу, очевидно, борясь с чем-то и не решаясь высказаться. - Я очень бы хотела исполнить Ваше желание. Но я думаю, что это очень огорчит Наталью Владимировну, которая так ко мне добра, так много для меня сделала и помогла мне приехать сюда. Я не могу решиться принести ей огорчение. Я и без того приношу всем, кто сближается со мною, одни несчастья. По ее лицу скатились две крупные слезы, и, видя ее страдания, я всей силой мысли припал к Флорентийцу, моля его помочь и послать мне силы не разрыдаться. - Предоставьте мне все уладить. Я уже до прихода к Вам объяснил Наталье Владимировне, что Вас надо очень закалить для того, чтобы общение с нею, с ее бурными силами не истощало Вас. Вы скажите только, желаете ли довериться мне и пройти короткий курс лечения под моим наблюдением? - Не только желаю, я умоляю Вас помочь мне, доктор И. Я с самой встречи с Натальей Владимировной поняла, что со мной происходит что-то неладное. Но в последнее время я стала ясно, сознавать, что умираю, - со слезами в голосе сказала леди Бердран. - Ну, до этого еще далеко, а закалить Ваш организм и двинуть Вас к систематическому знанию, как закаляться дальше самой, - необходимо. В эту минуту возвратилась сестра и доложила И., что носилки и носильщики здесь. Это я понял из ее указания нечто вроде паланкина в коридоре. И. сам поднял больную и усадил ее в полотняный паланкин, где всю ее обложили подушками. Носильщики подняли больную и перенесли в наш дом. Немедленно был отыскан Кастанда, больная водворена в комнату под нами, и И. отдал самые строгие распоряжения об ее диете и о том, чтобы к ней решительно никого не пускали. И мы помчались обратно в холл, где ждал нас Бронский, беседуя с Ольденкоттом. Домик, где сейчас жил Бронский, был довольно далеко, но зато очень близко от Аннинова. Войдя в комнату ученика и друга Бронского, мы увидели, как мне показалось, даже не очень молодого человека, брюнета, похожего на грузина, но на деле он оказался румыном. Присмотревшись внимательно, я понял, что человек этот молод, но чрезвычайно истощен. Он лежал, что-то бормоча. - Отчего Вы позволили Вашему другу, разгоряченному, опаленному зноем, броситься в холодное озеро. Ведь вы сами не только не сделали этого, но даже мылись в теплой ванне. - Я умолял Игоро не делать этого. Но румыны вообще упрямы и думают, что лучше понимают потребности своей природы. К тому же мать Игоро венгерская цыганка и приучила его с детства к постоянной смене холода и зноя. Он никогда не болел за все время нашего знакомства. Насколько я должен был всегда думать о своем здоровье, настолько мой друг мог расточать его самым легкомысленным образом безнаказанно. Поэтому-то сейчас я так и обеспокоен его болезнью. - Да, он очень, очень сильно болен. И если и выздоровеет, то не скоро. Вам придется или покинуть его здесь на меня, или же остаться самому вместе с ним на долгое время, не меньше года, - осматривая больного, говорил И. - Я понимаю, что Вам необходимо возвратиться к Вашей деятельности. У Вас, по всей вероятности, целый ряд контрактов, зовущих Вас в разные города мира. Но о здоровье друга Вы можете не беспокоиться, мы с Левушкой Вам его выходим. И через год он вернется к Вам. - Я не покину друга в беде, доктор И. Я знаю, что буду мало полезен, и не менее хорошо знаю, какое счастье для моего друга встреча с Вами. Но и для меня встреча с Вами в данную минуту жизни важнее всех дел и контрактов, важнее самого искусства, для которого я и жил до сих пор. Я уеду отсюда только в том случае, если Вы меня выгоните. Я Вас умоляю, не отправляйте меня отсюда, прочтите письмо того человека, которого я случайно встретил в Лондоне несколько месяцев тому назад. Он после долгого разговора в моей уборной в театре, когда я играл "Отелло", дал мне письмо к Вам, назвав себя Флорентийцем, хорошо Вам известным. Он же объяснил мне дорогу сюда и дал в провожатые своего слугу, когда я - ни минуты не размышляя - решил ехать к Вам сюда. Игоро не отпустил меня одного. И, когда я познакомил с ним Флорентийца, сказав ему, что друг мой желает меня сопровождать, Флорентиец долго-долго смотрел на него и сказал: "Ну, быть тому. Но помните, что я его с Вами не посылал. Вы можете его взять на свой страх и риск". Мне очень не хотелось, чтобы Игоро ехал со мной. Я всячески пытался его отговорить, но не сумел настоять, как и вообще не умею нигде и ни в чем, кроме одного искусства, проявить свою волю. Только в нем я целен и уверен до конца. Ему служу без компромиссов и в нем никто и ничто не может сбить меня с моего пути, раз понятого и принятого. Не отвергайте меня, - внезапно опускаясь на колени, с тоской и мукой в голосе закончил свои слова Бронский. И. быстро подошел к нему, поднял его, обнял и ласково сказал: - Встаньте, мой друг и брат. Я с радостью принимаю Вас в число моих учеников. Не беспокойтесь за Вашего друга. Он будет жить, и характер его, так много тиранивший Вас в жизни, очень изменится к лучшему. Но пострадать ему придется немало, так как не только все корешки нервов у него воспалены, но и вся нервная система нарушена из-за недопустимой разницы температур, к которым он одинаково непривычен, несмотря на кажущееся закаливание, к которому приучала его мать. И. приготовил лекарство, с моей и Бронского помощью влил его больному, растер его тело чем-то невыносимо остро пахнувшим и снова сказал артисту: - Сейчас Ваша помощь здесь совершенно не нужна. Больной будет долго спать, а потом все равно никого узнавать не будет. У него род тифозной горячки, но на самом деле это только ужасающая встряска всего организма, которая могла бы окончиться безумием, если бы Вы не встретили здесь меня. Послав меня за дежурной медицинской сестрой, И. сказал Бронскому, чтобы он захватил войлочную шляпу и мохнатое полотенце в своей комнате и ждал нас у выхода. Я вернулся в комнату больного с братом милосердия. И. сделал Игоро укол довольно толстой иглой и, дав дежурному все указания, обещал через два часа прислать фельдшерицу. Мы собрали аптечку, тщательно вымыли руки и сошли вниз к ждавшему нас Бронскому. Жара была уже очень сильная. И. нахлобучил мне шляпу и спустил вуаль, посоветовав сделать то же самое и своему новому ученику, и мы, перейдя несколько дорожек, очутились в доме Аннинова. Все в этом доме было какое-то особенное. Сразу же меня поразило, что из небольшой передней выходила дверь прямо в большой белый зал, где посреди комнаты стоял белый рояль, а по стенам несколько диванов - жестких и тоже белых, а на тумбе из черного мрамора какая-то небольшая статуя, показавшаяся мне портретом Данте. Потом я увидел, что это было изображение Будды. Слуга провел И. в следующую комнату через большой зал, а мы с Бронским остались ждать в зале. Он стал мне рассказывать об Аннинове, об его гении, успехе у публики и о его страданиях. Он давно покинул родину, очень страдал от тоски по ней, но никогда туда не возвращался, скитаясь по всему свету. Бронский не знал, что заставило музыканта покинуть родину, так горячо любимую. Но знал наверное, что большая часть его болезни сердца лежала в постоянной тоске по ней. Довольно долго И. не возвращался. Бронский, видя мой восторг при описании его впечатлений от встречи с Флорентийцем, очевидно и сам находясь под сильным влиянием красоты и мудрости моего высокого друга, рассказал мне подробно, как он был в особняке Флорентийца в Лондоне, видел там моего брата, от него получил мой рассказ. Он видел Наль и ее подругу Алису, красотой которых был так поражен и восхищен, что до сих пор не знает, которая из них лучше. Что Алиса - это Дездемона, а Наль так юна и вместе с тем так величественна, что для нее он не находит имени в своем артистическом словаре. Что такой женщины он еще не видел и готов был бы заподозрить в преувеличении всех, кто ему рассказывал бы об обитателях особняка Флорентийца. - Я иногда и сейчас спрашиваю себя, не во сне ли я видел этих людей? Возможно ли такое количество красоты и доброты в одном месте Лондона? - Бронский задумался, точно куда-то унесся мыслями, и тихо продолжал: - Когда я увидел И. входящим в столовую, я сразу понял, что это именно он, хотя никто мне этого не говорил. Помимо его исключительной красоты, в И. есть что-то, чего я не умею определить, но что совершенно определенно напоминает мне Флорентийца. Что это такое, я еще не понимаю, но это нечто, никому, кроме этих двух фигур, не свойственное. Много я видел людей, и людей великих, но что-то божественное - до того оно высоко бросилось мне в глаза и поразило меня в И. и во Флорентийце. У двери послышались голоса, и в зал вошли И. и Аннинов. На щеках музыканта горели пятна, очевидно, или у него был жар, или он пережил очень сильное волнение. Он приветливо поздоровался с нами, предложил нам фрукты и прохладительные воды, но И. не разрешил нам ни того, ни другого. - Итак, кончайте Ваш труд, Сергей Константинович, и отложите концерт на несколько дней. С Вашего разрешения, я приведу целую толпу народа, жаждущую послушать Вас. Вы совершенно здоровы. Мало того, что Вы сами здоровы, вам еще придется помочь мне лечить Вашей музыкой двух больных. Без музыки в данный момент их не вылечить. Мы с Вами выработаем программу и, я надеюсь, вернем им разум, - прощаясь, говорил И. Тут уж я был поражен до полного ловиворонства. Лечить музыкой? Так я и ушел, не собрав мозгов, и, если бы не жара, стоял бы, наверное, на месте. Но солнце жгло немилосердно даже сквозь вуаль, и И. набросил мне на голову толстенное мохнатое полотенце Бронского, которое смочил в фонтане, чем привел меня несколько в себя. Дома И. велел мне полежать, пока он приготовит лекарство для Максы, а Бронского просил разыскать Кастанду. Едва я лег, как мгновенно заснул. Мне показалось, что я спал Бог знает как долго. На самом же деле оказалось, что спал я не более двадцати минут, а отдохнул чудесно. И. разбудил меня, дал мне превкусное питье, сказав, что теперь пить можно. Я взял микстуру для Максы, еще какие-то лекарства для передачи сестре Александре и должен был привести с собой обратно сестру милосердия специально для Игоро. Я радовался, что сейчас пойду чудесным лесом. Питье И. делало меня малочувствительным к жаре. Мне хотелось побыть одному и подумать обо всем пережитом за эти дни. Но возвратился Бронский и, узнав, что я иду в незнакомое ему место, так моляще посмотрел на И., что тот рассмеялся и, хитро посмотрев на меня, сказал: - Там у Левушки завелась зазнобушка, Алдаз! Если он решится на самопожертвование и возьмет Вас, я буду рад. Для Вас там найдется многое, на что посмотреть. - Левушка, я буду нем, как пень, услужлив, раб, благодарен, как ребенок. Возьмите меня. Я даже подавился от смеха, такое необычайное выражение, вернее, целая гамма сменяющихся выражений промелькнула на его лице. Он выпрямился и громовым голосом, точно клятву на мече, выговорил: - Буду нем, как пень. - Потом согнулся, точно весь сузился, точь-в-точь льстивый раб, и сахарным голосом произнес: - Услужлив, как раб. И вдруг, широко улыбнувшись, распустил все складки лица, только что сморщенного и подлизывающегося, и ясным, детским голосом, наивно глядя мне в глаза, очаровательно шепелявя, сказал: - Благодарен, как ребенок. Все это было для меня так неожиданно, что я, разумеется, все забыл, бросился ему на шею и заявил, что теперь понимаю, почему он покорил мир. Все еще смеясь, мы пустились в путь, к сестре Александре. Я хорошо запомнил дорогу, и хотя Бронский был таким увлекательным собеседником, что легко можно было впасть в рассеянность, я чувствовал себя вдвойне ответственным и перед И., и перед моим новым знакомым, в котором так многое меня пленяло, был все время настороже и не перепутал ни одного поворота. Макса еще спал, а сестра Алдаз на ломаном русском языке, который едва можно было понять, с помощью жестов и мимики своего прелестного личика старалась объяснить мне, что бедный Макса очень страдает. Я обещал передать это И. и прибежать еще раз к ней, если И. даст что-либо облегчающее. Повидав сестру Александру, захватив с собой данную ею сиделку для Игоро, мы поспешили обратно. Во время его разговора с Алдаз Бронский не спускал с нее глаз и лицо его выражало полное восхищение. Взглянув на него теперь, когда мы вошли в лес, где я снова ожидал его увлекательных рассказов, я увидел печальное, углубленное в себя лицо совсем нового человека. С ним произошла полная метаморфоза. На лице лежало какое-то мудрое спокойcтвиe, нечто похожее на то выражение, которое я часто подмечал на лице брата Николая. Но на лице Бронского эта мудрость носила сейчас печать скорби. Его высокий лоб прорезала морщина, глаза точно не видели ничего окружающего, губы были плотно сжаты, как будто бы он решал новый, внезапно вставший вопрос. Я не посмел нарушить его сосредоточенности и даже старался идти медленно и бесшумно, чтобы не мешать его мыслям. Я представил себе, что вот таким мудрецом бывает Бронский, когда