Добро пожаловать в пустыню Реального
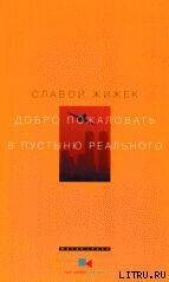
Добро пожаловать в пустыню Реального читать книгу онлайн
Сегодня все основные понятия, используемые нами для описания существующего конфликта, — "борьба с террором", "демократия и свобода", "права человека" и т. д. и т. п. — являются ложными понятиями, искажающими наше восприятие ситуации вместо того, чтобы позволить нам ее понять. В этом смысле сами наши «свободы» служат тому, чтобы скрывать и поддерживать нашу глубинную несвободу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Дзен весьма своеобразно относится к необходимости не застопоривать сознание. Как только ударишь по кремню, разлетаются искры. Между этими двумя событиями нет и малейшего промежутка. Если приказано смотреть вправо, нужно посмотреть вправо так же быстро, как вспыхивает молния. … Если названо имя, например, «Уемон», нужно просто ответить «Да» и не задерживаться для раздумий, почему было названо это имя. …Я верю, что, если призывают умереть, не должно быть ни капли волнения»[!Цит. по: Brian A. Victoria, Zen at War, New York: Weatherhilt 1998, p. 103.!].
Вместо того чтобы осуждать такую позицию как чудовищное извращение, нужно увидеть в ней признак того, чем подлинный дзен отличается от усвоенного Западом, вновь и вновь вписывающего его в матрицу «открытия истинного Я». Логика «внутреннего пути», когда ее доводят до конца, ставит нас перед пустотой субъективности и таким образом принуждает субъекта принять свою полную десубъективацию; парадоксальный паскалевский вывод из этой радикальной версии дзен состоит в том, что, раз не существует никакой внутренней субстанции религии, сущность веры — это совершенный декорум, подчинение ритуалу как таковому. Западный буддизм не готов принять, таким образом, то, что последней жертвой «пути к своему Я» является само это Я. И, более широко, не этот ли самый урок дает и «Диалектика Просвещения» Адорно и Хоркхаймера? Последней жертвой позитивизма являются не путанные метафизические понятия, а сами факты; радикальное стремление к секуляризации, обращение к нашей мирской жизни преобразует саму эту жизнь в «абстрактный» анемичный процесс — и нигде нельзя лучше ощутить эту парадоксальную инверсию, кроме работ де Сада, в которых необузданное утверждение сексуальности, лишенной последних крупиц духовного превосходства (transcendence), превращает саму сексуальность в механическое упражнение без какой бы то ни было подлинной чувственной страсти. И разве нельзя ясно увидеть подобную инверсию в тупике сегодняшних Последних Людей, «постмодернистских» индивидов, отвергающих все «высшие» ценности как террористические и посвящающих свою жизнь выживанию, жизни, наполненной все более и более изысканными и искусственно стимулируемыми/возбуждаемыми маленькими удовольствиями? Постольку поскольку «смерть» и «жизнь» означают для Павла две экзистенциальные (субъективные) позиции, а не «объективные» факты, полностью оправданным будет задать тот же самый вопрос Павла: кто же сегодня на самом деле жив?[!Я обязан этой мыслью Алену Бадью (выступление на симпозиуме «Павел и современность», Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, 14–16 апреля 2002 года).!] Что, если мы «на самом деле живы» только тогда, когда рискуем собой с чрезмерной интенсивностью, которая ставит нас за рамки «простой жизни»? Что, если тогда, когда мы сосредотачиваемся на простом выживании, даже если оно оценивается как «приятное времяпрепровождение», мы в конечном итоге упускаем саму жизнь? Что, если палестинский бомбист-самоубийца в тот момент, когда он подрывает себя (и других), является в эмоциональном смысле «более живым», чем американский солдат, поглощенный войной за экраном компьютера в сотнях миль от врага, или нью-йоркский яппи, бегущий трусцой вдоль Гудзона, чтобы сохранить свое тело в форме? Или, в терминах психоаналитической клиники, что, если истеричка по-настоящему жива в постоянном неумеренном провоцировании сомнений в своем существовании, тогда как обсессивный невротик — подлинный образчик выбора «жизни в смерти»? То есть, не состоит ли основная цель его навязчивых ритуалов в том, чтобы «вещь» не случилась, эта «вещь», являющаяся избытком самой жизни? Разве не является катастрофой, которой он боится, тот факт, что с ним, в конце концов, что-то действительно случается? Или, в терминах революционного процесса, что, если различие, отделяющее эпоху Ленина от сталинизма, вновь проходит между жизнью и смертью? Существует, несомненно, одна маргинальная черта, характеризующая этот вопрос: фундаментальная позиция сталинистского коммуниста состоит в том, чтобы следовать правильной линии партии против «правого» и «левого» уклонов, короче, следовать безопасному среднему курсу; в полную противоположность ей для подлинного ленинизма существует только один уклон, центристский — «безопасная игра», оппортунистическое уклонение от риска ясного и избыточного «занятия стороны». (Скажем, не было никакой «глубинной исторической необходимости» во внезапном переходе советской политики от «военного коммунизма» к «новой экономической политике» в 1921 году — это был именно отчаянный стратегический зигзаг между левой и правой линией, или, как выразился в 1922 году сам Ленин, большевики сделали «все ошибки, которые только были возможны»). Это избыточное «занятие стороны», этот постоянный дисбаланс зигзага являются, в конечном счете, самой (революционной политической) жизнью: для лениниста основным именем контрреволюционных правых является сам «центр», страх внести радикальный дисбаланс в социальное здание. Таким образом, здесь имеет место совершенно ницшеанский парадокс о том, что главнейшей потерей от этого мнимого утверждения Жизни против всякого трансцендентного Дела становится сама реальная жизнь. Жизнь, «стоящей, чтобы ее прожить», делает именно избыток жизни: осознание того, что существует нечто, ради чего можно рисковать жизнью (мы можем называть этот избыток «свободой», «честью», «достоинством», «автономией» и т. д.). Только тогда, когда мы готовы взять на себя этот риск, мы на самом деле живы. Честертон выразил эту идею по отношению к парадоксу смелости:
«Солдат, окруженный врагами, пробьется к своим только в том случае, если он очень хочет жить и как-то беспечно думает о смерти. Если он только хочет жить — он трус и бежать не решится. Если он только готов умереть — он самоубийца; его и убьют. Он должен стремиться к жизни, яростно пренебрегая ею; смелый любит жизнь, как жаждущий — воду, и пьет смерть, как вино»[! Честертон Г.К. Указ. соч. С. 425.!].
«Постметафизическая» позиция выживания у Последних Людей завершается анемичным зрелищем скучно тянущейся жизни как ее собственной тени. Именно в этом диапазоне следует рассматривать растущее сегодня отрицание смертной казни: нужно суметь увидеть скрытую «биополитику», которая поддерживает это отрицание. Те, кто утверждают «святость жизни», защищая ее от угрозы трансцендентных сил, паразитирующих на ней, приходят к «контролируемому миру, в котором мы будем жить безболезненно, благополучно — и скучно»[!Christopher Hitchens, «We Know Best», Vanity Fair, May 2001, p. 34.!], к миру, в котором ради его официальной цели — долгой радостной жизни — наложен запрет или строгий контроль на все действительные удовольствия (курение, наркотики, пища…). «Спасти рядового Райана» Спилберга — самый последний пример этого выживальческого отношения к смерти с его «демистифицированным» преподнесением войны как бессмысленной резни, которую ничто не способно оправдать, — по существу, он предлагает наилучшее оправдание военной доктрины «без-потерь-с-нашей-стороны» Колина Пауэлла. Следовательно, здесь нас не должны сбивать с толку открытый расистский христианский фундаментализм «защиты Запада» и терпимая либеральная версия «войны с террором», которая, в конечном счете, хочет спасти от фундаменталистской угрозы самих мусульман: важно, что, несмотря на их различия, они попадаются в одну и ту же саморазрушительную диалектику.
И именно на фоне этого основного изменения в «биополитике» следует рассматривать ряд недавних политических заявлений, которые не могут не показаться своеобразными фрейдистскими оговорками. Когда журналисты задали вопрос о целях американских бомбардировок Афганистана, Дональд Рамсфельд однажды просто ответил: «Хорошо, для того, чтобы убить как можно больше солдат Талибана и членов Аль-Каиды». Это заявление не столь уж самоочевидно, как может показаться: обычно цель военных действий состоит в том, чтобы выиграть войну, заставить врага сдаться, и даже массовые разрушения, в конечном счете, являются средством для достижения этой цели… Проблема тупого заявления Рамсфельда, равно как и других подобных феноменов вроде сомнительного статуса афганских заключенных в Гуантанамо, состоит в том, что они, по-видимому, прямо указывают на различение Агамбена между полноправным гражданином и homo sacer, который хотя и является живым человеком, но не входит в политическое сообщество. А каков статус Джона Уолкера, «американского талиба»? Его место в американской тюрьме или среди заключенных из Талибана? Когда Дональд Рамсфельд определяет их как «незаконных участников боевых действий» (в отличие от «обычных» военнопленных), это означает не просто то, что они объявлены вне закона из-за их преступной террористической деятельности: когда американский гражданин совершает тяжкое преступление (например, убийство), он остается «законным преступником»; различение между преступниками и не преступниками не покрывается различением между «законными» гражданами и теми, кого во Франции называют sans papiers. Исключенными являются не только террористы, но еще и те, кто получают гуманитарную помощь (руандийцы, боснийцы, афганцы…): сегодняшний Лото sacer — это привилегированный объект гуманитарной биополитики, это тот, кто лишен всей своей человечности посредством покровительственной заботы о нем. Следовательно, нужно признать парадокс, что концентрационные лагеря и лагеря беженцев для поставок гуманитарной помощи — это два лика, «человеческий» и «нечеловеческий», одной и той же социо-логической формальной матрицы. В обоих случаях уместна шутка из «Быть или не быть» Любича: когда задавался вопрос о немецких концентрационных лагерях в оккупированной Польше, «концентрационный лагерь Эрхардт» раздраженно отвечал — «Мы концентрируем, а поляки разбивают лагерь»[!И разве то же самое не относится к банкротству «Энрона» в январе 2002 года, которое можно также истолковать как своеобразный иронический комментарий к понятию общества риска? Тысячи работников, лишившихся своих рабочих мест и сбережений, безусловно, подверглись риску, но в этом не было подлинного выбора — риск явился им сам, как слепой рок. Те же, кто, напротив, действительно имели возможность вмешаться в ситуацию (топ-менеджеры), минимизировали свои риски, получив деньги за акции и опционы перед банкротством, — реально риски и выбор были, следовательно, идеальным образом распределены… И вновь, по поводу популярного представления о том, что сегодняшнее общество является обществом рискованных выборов, можно сказать, что одни (менеджеры «Энрона») выбирают, тогда как другие (рядовые работники) рискуют…!]. В обоих случаях население сводится к объекту биополитики. Таким образом, не достаточно просто перечислить перечень фигур сегодняшнего homo sacer: les sans papiers во Франции, обитатели favelas в Бразилии, афро-американские гетто в Соединенных Штатах и т. д. и т. п. Безусловно, важно дополнить этот перечень с гуманитарного края: возможно, те, кто рассматриваются как получатели гуманитарной помощи, являются сегодня фигурой homo sacer.


























