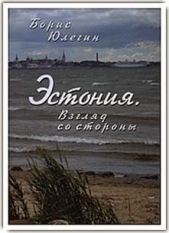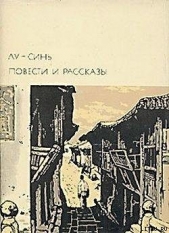Вырождение. Современные французы

Вырождение. Современные французы читать книгу онлайн
Макс Нордау
"Вырождение. Современные французы."
Имя Макса Нордау (1849—1923) было популярно на Западе и в России в конце прошлого столетия. В главном своем сочинении «Вырождение» он, врач но образованию, ученик Ч. Ломброзо, предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». Нордау возложил ответственность за эпоху декаданса на кумиров своего времени — Ф. Ницше, Л. Толстого, П. Верлена, О. Уайльда, прерафаэлитов и других, давая их творчеству парадоксальную характеристику. И, хотя его концепция подверглась жесткой критике, в каких-то моментах его видение цивилизации оказалось довольно точным.
В книгу включены также очерки «Современные французы», где читатель познакомится с галереей литературных портретов, в частности Бальзака, Мишле, Мопассана и других писателей.
Эти произведения издаются на русском языке впервые после почти столетнего перерыва.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На родине его любят и ценят как историка, и только. За границей же, особенно в Германии, с именем историка привыкли соединять представление о строгом ученом, который в архивной пыли отыскивает забытую истину, спускается на самое дно с трудом отрытых источников, чтобы добыть достоверные факты, с серьезностью судьи выслушивает современных свидетелей с целью составить себе из их зачастую разноречивых показаний одно понятие, и притом такое положительное, какое допускает только людская слабость. В Германии даже существует мнение, что историк есть пророк, оглядывающийся на прошлое. Но историки, мнящие себя руководителями науки, втайне покачивают на это головами. Они требуют от труда историка как можно меньше пророчества, рекомендуют почаще заглядывать в прошлое и настоящее, дают предпочтение исследованию перед изложением; подстрочное примечание для них важнее, чем текст; они не любят положений, недостаточно обоснованных; а чутье и догадку считают плохими помощниками в работе, так как к ним надо относиться постоянно с крайним недоверием. На искусство излагать они смотрят как на необходимое зло, а не как на достоинство. Оно нужно им как парадное платье, в котором история должна явиться с неизбежным, но скучным визитом к людям несведущим; обыкновенный же наряд ее состоит, по их мнению, из талара, служебного мундира науки.
Но ничто так не противоречит этому представлению, как история, провозвестником и служителем которой является Мишле. Его история презирает кропотливую и сухую ученость и верит в сверхъестественную силу духовного ока, которым одарены пророки. Им нет надобности робко цепляться за перила, они, не связанные никакими путами, прыгают и летают через всякие пропасти и крутизны. Они не любят труда судебного следователя, им больше нравится свободный рассказ. Высказывая какое-нибудь мнение, они не останавливаются долго на доказательствах; и это они делают с такой самоуверенностью, что убеждают простодушного читателя гораздо скорее, чем критический исследователь, который невольно передает читателю свое собственное сомнение.
Но разве это история? Не роман ли это? Такой вопрос задает себе всякий рассудительный человек, а во Франции он возбуждался даже очень часто. Со времени войны явилось новое поколение, желающее возможно бόльшему научиться у победителя, в надежде выпытать у него тайну его успеха на поле битвы. Эта юная школа исследователей сидела у ног немецкой науки и познакомилась с ее точными методами. Перед ней Мишле не мог оправдаться. Она отзывается о нем неуважительно и клеймит его прозвищем краснобая.
На толпу — я говорю здесь не о черни, а о людях образованных, но не специалистах — презрение коллег Мишле не произвело до сих пор никакого действия. Они продолжают читать и восторгаться им. Они требуют не истины, а красоты. Они ищут у историка не назидания, а наслаждения. А у Мишле они находят все это в изобилии.
Мишле — писатель и больше ничего. Необыкновенная способность чувствовать делает из него тонкого наблюдателя природы и жизни, страстный темперамент помогает образованию усиленного резонанса его впечатлений, а неутомимое воображение присоединяет к его наблюдениям самые неожиданные, забавные и смелые толкования. Это есть существенное качество писателя. Даст ли он их читателю в связной или свободной речи, конечно, не важно. В своих мелких произведениях Мишле попеременно то лирик, подобно Виктору Гюго и Шелли, то дидактик, как Рюкерт. В своих исторических произведениях он поэт, певец бесчисленных героических поэм, между которыми пестреют короткие, такие же звучные баллады.
Желание подвести под одну мерку понимание истории певца и основное учение философа или социолога было бы большой педантичностью, которая невольно вызвала бы улыбку. У Мишле не имелось никаких систематических воззрений. По всей вероятности, он никогда и не спрашивал о силе, которая движет историей, и целях, которые она преследует; а если подобные вопросы и вставали в его уме, то он оставлял их без ответа. Он и не думает проникнуть в глубину загадочного закона, скрывающегося за историческим развитием, его интересует только художественное изображение самих событий. Он перелистывает историю, как великолепную книгу с картинками, где на каждой странице ожидает его ярко раскрашенная миниатюра, и он с неподдельным восторгом останавливается то на одном, то на другом эскизе картины. Иногда кажется, будто он склоняется больше на сторону модных демократических воззрений, настоящим героем которых является народ, а люди, стоящие на переднем плане, представители власти и титула, имеют только чисто декоративное значение. Обыкновенно же он следует индивидуалистической передаче фактов великих писателей и мыслителей своего народа. По мнению Паскаля, «лицо мира приобрело бы другое выражение, если бы нос Клеопатры имел менее красивую форму». По словам Боссюэ, «песчинка в пузыре Кромвеля дала судьбе человечества другое направление». В стране, управление которой сосредоточено в руках неограниченной королевской власти, во Франции, где судьба государства и народа зависела — по крайней мере наружно — от личной воли какого-нибудь Людовика XI, Генриха IV или Людовика XIV, такая высокая оценка участия в истории подобных лиц должна казаться правдивой. Так и Мишле именно самым важным пунктам своего изложения придает индивидуальность, которую делает центром всего движения. И так как он поэт, одаренный живым воображением, с которым соединяются обыкновенно невероятные причуды, то он дает, между прочим, место самым странным предположениям для того, чтобы только объяснить поступки своих центральных действующих лиц. Впрочем, это вполне основательно. Потому что если человек действительно создает историю, то понятно, что ощущения его бедного тела определяют его деяния. На этом основании Мишле удалось произвести хирургический разрез царствования Людовика XIV по главным его пунктам, и такое деление признано во Франции гениальным, между тем как Ломброзо усматривает в нем признаки умственного .расстройства Мишле.
Но все это не так существенно. Важно то, что великие подвиги Франции воспеты в эпической поэме, а с чьим именем они связаны, с именем ли черной толпы, или прославленного короля, или простой дочери народа, подобно Иоанне Лотарингской, или могущественного министра, подобно герцогу кардиналу Ришелье, не все ли это равно? В отношениях Мишле к французскому народу замечается, как и во многих явлениях современной цивилизации, старинный атавизм. У воинственных варваров был обычай, чтобы на пирах начальников и знатных людей певцы садились на приготовленное для них место и пели под аккомпанемент арфы песни, в которых прославлялись дела предков. Чем для древних дорийцев был аэд, для кельтов бард, для викингов скальд, тем был для современных французов их Мишле. Если смотреть на Мишле с этой точки зрения, то увидим в настоящем свете его положение, его влияние и его труд. Тогда мы не станем требовать от него сухой критики, она только умалила бы славу великих предков в балладе. Все восхищаются высоким слогом его речи, но рассудительному читателю он скоро покажется скучным, потому что эта высокопарность в передаче исторических фактов напомнит ему славные сказания древних. Его проза есть в сущности поэзия волнообразного ритма, которая требует не чтения, а пения в мелодическом тоне под аккомпанемент музыкального инструмента. Очень понятно, почему французский читатель так восторгается историей Мишле. Таким же образом рассказывает Приск в знаменитом докладе о своем посольстве ко двору Аттилы в 446 г., о том впечатлении, какое произвели на него «двое варваров, которые во время царского стола вышли на середину залы, где сидел повелитель, и стали воспевать подвиги царя. Гости с изумлением смотрели на певцов; у одних эти песни вызывали чувство умиления, у других воспоминания об их победах, у третьих геройское воодушевление. Те же, которых старость сделала бессильными и успокоила воинственный дух, проливали обильные слезы». Гёте в своем «Певце», где слышится отголосок рассказа Приска, говорит то же самое, но короче: «Рыцари смотрели отважно, а красавицы потупив взоры». Наконец, выясняется и равнодушие иностранцев к главному произведению Мишле. Почему баллады, повествующие о геройских подвигах предков одного народа, должны волновать сердца чужих народов? Даже сам Мишле не сознавал ясно настоящего значения своей литературной деятельности. Он не знал, что он народный бард, и серьезно считал себя архивным червем, учителем прошедших событий. Вот вследствие этого-то ложного взгляда он и решился написать всеобщую историю Европы. Только за этой работой он понял свое заблуждение. Деяния и судьбы чужих народов не интересовали его, и ему казалось даже смешным воспевать их в звучных строфах скальдов. Ему следовало бы рассказывать их спокойно в прозе, но это надоедало ему точно так же, как и его читателям. И Мишле был настолько умен, что оставил свой труд неоконченным.