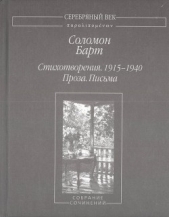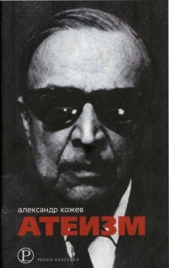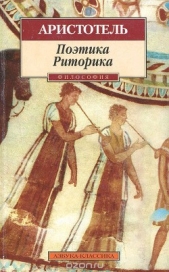Семиотика, Поэтика (Избранные работы)
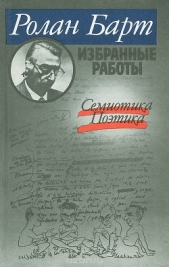
Семиотика, Поэтика (Избранные работы) читать книгу онлайн
В сборник избранных работ известного французского литературоведа и семиолога Р.Барта вошли статьи и эссе, отражающие разные периоды его научной деятельности. Исследования Р.Барта - главы французской "новой критики", разрабатывавшего наряду с Кл.Леви-Строссом, Ж.Лаканом, М.Фуко и др. структуралистскую методологию в гуманитарных науках, посвящены проблемам семиотики культуры и литературы. Среди культурологических работ Р.Барта читатель найдет впервые публикуемые в русском переводе "Мифологии", "Смерть автора", "Удовольствие от текста", "Война языков", "О Расине" и др. Книга предназначена для семиологов, литературоведов, лингвистов, философов, историков, искусствоведов, а также всех интересующихся проблемами теории культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
(c) Gallimard, 1973
519
некоторыми лингвистами, хотя дело их - заниматься не дискурсом, а только системой языка; они предлагали (хотя до сих пор и не нашли поддержки) разграничивать две грамматики - активную грамматику, грамматику языка в смысле речевой деятельности, высказывания, производства, и грамматику пассивную, то есть грамматику слухового восприятия. При транслингвистическом переходе на уровень дискурса это разграничение могло бы объяснить парадоксальность нашей культуры, с ее единством слухового кода (кода потребления) и раздробленностью кодов производства (кодов желания); в "примиренной культуре", на уровне которой нет видимых конфликтов, на самом деле имеет место разделение (социальное) языков.
В науке это разделение до сих пор было едва ли не запретной темой. Лингвистам, конечно, известно, что любой национальный язык (например, французский) имеет некоторое количество разновидностей, однако среди этих разновидностей изучались лишь географические (местные диалекты и говоры), а не социальные; социальное же расслоение языка хотя в принципе и признается, но на практике приуменьшается, сводится к различию "манер" выражения (арго, жаргоны, смешанные языки). Считается к тому же, что язык вновь обретает свое единство на уровне говорящего, у которого есть свой собственный язык, индивидуальная речевая константа, именуемая идиолектом; всякие же разновидности языка воспринимаются как его промежуточные, неустойчивые, "забавные" состояния, как какие-то экзотические причуды его социального бытования. Такие воззрения берут начало в XIX в. и вполне отвечают определенной идеологии (ей не был чужд и сам Соссюр), противопоставляющей общество (естественный язык и его систему) и индивида (идиолект, стиль); всякие напряжения между этими полюсами могут быть только "психологическими" - считается, что индивид борется за признание своего языка, чтобы не задохнуться под гнетом языка других. Социология той эпохи не смогла осмыслить этот конфликт на уровне языка: Соссюр был в большей мере социологом, чем Дюркгейм - лингвистом. Ощущение разделенности (хотя бы психологической) языков возникло скорее в литературе, чем в соци
520
ологии, - и не удивительно: литература содержит в себе все знания, правда, в ненаучной форме; она представляет собой Матесис.
Как только роман стал реалистическим, его задачей с неизбежностью стало воссоздание социального разноязычия; но, как правило, для имитации групповых, социопрофессиональных языков наши романисты использовали второстепенных, эпизодических персонажей, в которых "фиксировалась" социальная реалистичность фона, меж тем как главный герой по-прежнему говорил на вневременном языке, нейтральность и "прозрачность" которого как бы созвучны универсальной психологической природе человеческой души. Острое сознание социальных языков присуще, например, Бальзаку; но он воспроизводит их в обрамлении, подчеркнуто выделяет, словно бравурную арию в опере, окарикатуривает с помощью причудливо-живописных черт - таков, скажем, тщательно фонетически воссозданный говор г-на Нусингена или привратницкий жаргон г-жи Сибо, консьержки кузена Понса. Вместе с тем у Бальзака встречается и другой вид языкового мимесиса - он интереснее, так как, во-первых, более наивен, а во-вторых, носит скорее культурный, чем социальный характер; я имею в виду воссоздание кода расхожих мнений, которые Бальзак нередко пересказывает от своего собственного лица, вставляя в повествование свои пояснения. Если, допустим, в рассказываемой им истории ("О Екатерине Медичи") промелькнет фигура Брантома, то Брантом станет говорить о женщинах в точном соответствии со своей культурной "ролью" "специалиста по галантным историям", исполнения которой и ожидает от него общее мнение (докса); увы, нельзя поручиться, что сам Бальзак поступает здесь вполне осознанно, - он-то считает, что воссоздает речь Брантома, тогда как фактически он копирует лишь копию (культурный слепок) этой речи.
Флобера уже не заподозрить в подобной наивности (кое-кто скажет пошлости): этот писатель не ограничивается воспроизведением мелких отклонений от нормы в фонетике, лексике, синтаксисе, он старается сделать предметом подражания более тонкие и диффузные языковые значимости, своего рода фигуры дискурса, a главное (если обратиться к самой "глубокой" книге
521
Флобера - "Бувару и Пекюше"), в его мимесисе нет дна, нет предела. Научные, технические, классовые (буржуазные) языки культуры цитируются в романе, автор копирует их, но не принимает за чистую монету, сам же он, в отличие от Бальзака, остается как бы неуловимым; с помощью исключительно тонких приемов, которые только теперь начинают для нас проясняться, Флобер нигде не показывает своей окончательной внеположности по отношению к "заимствованному" им виду дискурса. Такая двусмысленность делает в чем-то иллюзорным сартровский или марксистский анализ "буржуазности" Флобера: пусть даже буржуа Флобер и говорит на языке буржуазии, но как узнать, откуда осуществляется это высказывание? То ли оно критически возвышается над буржуазным языком, то ли отрешенно удалено от него, то ли "увязает" в нем? На самом же деле язык Флобера утопичен, что как раз и делает его современным: ведь ныне лингвистика и психоанализ учат нас именно тому, что язык - это область, которой ничто не внеположно. Среди крупнейших писателей, сталкивавшихся с проблемой разделения языков, можно вслед за Бальзаком и Флобером назвать Пруста, ибо в его творчестве заключена настоящая энциклопедия языка; даже не возвращаясь к общей проблеме знаков у Пруста (о которой замечательно написал Ж. Делез) и ограничиваясь только сферой членораздельной речи, у этого писателя можно обнаружить все виды словесного мимесиса. Среди них и характерные подражания (послание Жизель, имитирующее школьное сочинение и дневник Гонкуров), и идиолекты персонажей (в "Поисках утраченного времени" у каждого действующего лица свой язык, одновременно лично и социально характерный, - язык феодального сеньора у Шарлю, язык сноба у Леграндена), языки семейных кланов (у Германтов), язык класса (Франсуаза и ее "простонародная речь", которая, правда, воссоздается здесь главным образом в контексте ностальгии по прошлому); приводится целый каталог языковых аномалий (искаженный язык "чужака" - управляющего Гранд-отелем в Бальбеке), тщательно отмечаются языковые приспособления (Франсуаза испытывает влияние "современной" речи ее дочери) и языковая диаспора (язык Германтов "роится"), излагают
522
ся соображения о происхождении слов и об основополагающей роли имени как означающего; в этой детальной и исчерпывающей панораме типов дискурса не упущено даже отсутствие (намеренное) некоторых языков - у рассказчика, его родителей, Альбертины своего языка нет. И все же, как бы далеко ни продвинулась литература в описании разделенных языков, видны и пределы этого литературного мимесиса. С одной стороны, воссоздаваемый язык не выходит за рамки "экзотического" (можно даже сказать, колониального) представления о языках, отклоняющихся от нормы; язык другого дается в обрамлении, автор (кроме разве что Флобера) обладает по отношению к нему экстерриториальностью; разделение языков распознается порой столь проницательно, что таким "субъективным" писателям вполне могла бы позавидовать социолингвистика, и все же для описывающего лица оно остается внешним предметом; иными словами, наблюдатель здесь, наперекор достижениям современной релятивистской науки, не учитывает своего места в процессе наблюдения; разделение языков прекращается на уровне автора, который его описывает (если только оно им не разоблачается). С другой стороны, воспроизводимый в литературе социальный язык остается одноголосым (вспомним отмеченное выше разграничение двух грамматик): Франсуаза говорит одна, мы ее понимаем, но никто в книге ей не отвечает; подвергаемый наблюдению язык монологичен, он никогда не включается в диалектику (в прямом смысле слова); в результате такие осколки языков фактически рассматриваются как идиолекты, а не как целостная и сложная система языкового производства.