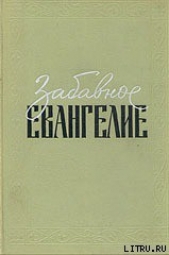Иисус неизвестный
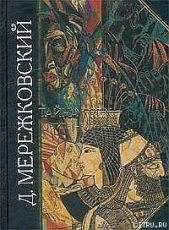
Иисус неизвестный читать книгу онлайн
Центральное место в трилогии «Тайна трех» занимает трактовка русским писателем и философом загадок и тайн древнейших цивилизаций (Египта, Вавилона, Древней Греции и др.), отразившихся в христианской религии и философии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ибо, если бы познали, то не распяли бы Господа славы. (I Кор. 2, 7–8.)
Это и значит: чем кончится игра Иисуса с дьяволом, не знал никто, ни в этом мире, ни в том. Знал ли сам Иисус, или только бесконечно надеялся и бесконечно покорствовал воле Отца: «не Моя, а Твоя да будет воля»? Этого мы не знаем; знаем только, что если бы Христос не воскрес, то проклят был бы Висящий на древе. Но вот, воскрес, и благословен Проклятый; Иисус — воистину Христос.
Двести дней — двести ночей, как бы уже Гефсиманских, учит Иисус учеников своих, все там же, вероятно, в селениях Кесарии Филипповой.
…Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного.
То ужасаются, то надеются, что крест как-нибудь мимо пройдет; то «спят от печали». Самое, может быть, страшное для них, потому что самое точное и все решающее, слово: «в Иерусалим». Тотчас по исповедании Петра, —
начал Иисус открывать ученикам Своим, что должно Ему идти в Иерусалим (Мт. 16, 21).
…Потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима (Лк. 13, 33).
Когда же наступили дни взятия Его (от мира). Он устремил лицо Свое, на путь в Иерусалим (Лк. 9, 51).
Дни эти можно определить с почти несомненной исторической точностью. Около середины марта собиралась ежегодная храмовая дань, чьи сборщики обратились к Петру в Капернауме (Мт. 17, 24): значит, Иисус вышел из селений Кесарии Филипповой около начала марта, 30–31 года нашей эры, 16 — 17-го — царствования Тиберия.
Вышедши оттуда, проходили они через Галилею. (Мк. 9, 30.)
Если Он «устремил лицо Свое» на путь в Иерусалим, то возвращался, вероятно, тем же кратчайшим, двухдневным путем, каким шел туда, — через те же Хоразинские высоты, откуда снова мог видеть расстилавшееся у ног Его, Геннисаретское озеро, все место Блаженной Вести, от ее начала до конца, от горы Блаженств, над Капернаумом, до горы Хлебов, над Вифсаидой.
Были те же дни ранней весны, как два года назад, когда солнце царства Божия восходило на горе Блаженств, и год назад, когда оно зашло на горе Хлебов. Так же покоилось, в глубокой котловине между горами, длинное, узкое, в зеленеющих весенних берегах, воздушно-голубое озеро, как бы на землю сошедшее небо; так же бледные луга асфоделей, бессмертных цветов смерти, расстилались между черных базальтовых скал, и рдели у ног Иисуса цветы анемонов, брызнувшими каплями крови по темной зелени вересков; так же плакала унылая, как шум ночного ветра в озерных камышах, киннора, пастушья свирель умирающего бога Кинира:
воззрят на Того, кого пронзили,
и будут рыдать о Нем,
как рыдают о сыне единородном,
и скорбеть, как скорбят о первенце. (Зах. 12, 10).
И чей-то тихий зов был во всем, сердце, надрывающая жалоба:
брачный пир готов, и никто не пришел.
Вспомнили, может быть, ученики, снова увидев с Хоразинских высот гору Хлебов, как год тому назад хотел народ сделать Иисуса «царем Израиля», Мессией, и вспомнив, подумали: «Царство Божие не наступило тогда; не наступит ли теперь?» И начали спорить, «кто из них больше» (Лк. 9,46); кому какое место достанется в Царстве; кто «сядет по правую и по левую сторону» Царя (Мк. 10, 37).
И пришел (Иисус) в Капернаум. И когда был в доме, —
вероятно, Симона Петра, там же, где в первые дни служения, —
спросил их: о чем вы дорогою спорили?
Они же молчали…
Вспомнили, должно быть, забытый Крест, и устыдились.
И, севши, подозвал Двенадцать, и сказал им: кто хочет быть первым, будь последним из всех и слугою всем.
И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им:
Истинно говорю вам: если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в царство небесное. (Мк. 9, 33–37; Мт. 18, 3.)
К детям ближе Он, чем к взрослым. Взрослые Ему удивляются, ужасаются, а дети радуются, как будто, глядя в глаза Его, все еще узнают — вспоминают то, что взрослые уже забыли, — тихое райское небо, тихое райское солнце.
Вечная юность мира, детство, — бывший рай, будущее царство Божие.
… Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам. (Мт. 11, 25.)
Здесь, в Капернаумском рыбачьем домике Симона, — тот же субботний покой, тишина блаженства, как там, на горе Преображения:
Господи! хорошо нам здесь быть.
… Бог увидел все, что сотворил Он, и вот, весьма хорошо.
Все как будто уже совершилось: Крест позади, миновала Голгофская ночь, и царства Божьего солнце восходит, незакатное.
Только что Иисус изнемогал, падал под крестною ношею, и вот опять несет ее с божественной легкостью.
ЧАСТЬ II. СТРАСТИ ГОСПОДНИ
1. ВШЕСТВИЕ В ИЕРУСАЛИМ
Вшествием в Иерусалим начинаются страсти Господни.
Прежде чем говорить о самом деле, надо бы понять слово или хотя бы только, услышав его, удивиться, почему Церковь называет такое дело таким словом — наследием от нечестивейшей для нее, «бесовской» мистерии бога Диониса. «Бесы, узнав через иудейских пророков о скором пришествии Господа, поспешили изобрести басню о боге Дионисе, дабы распространить ее среди эллинов и других народов, там, где, как знали они, поверят этим пророчествам: бог Дионис, будто бы растерзанный на части, вознесся на небо», — учит св. Юстин Мученик в середине II века и, может быть, сам учению своему ужасается. [691] Но вот, вопреки этому, Церковь величайшую святыню свою, искупительные страдания Богочеловека, называет тем же словом, каким в дохристианских таинствах названы страдания «бога-беса»: «Страсти», πάθη. Между «растерзанием» Вакха, diaspasmos, и «распятием Логоса» устанавливают связь, хотя бы только от противного, не одни еретики-гностики, [692] но и такие православные учителя Церкви, как св. Климент Александрийский: «Вечную истину видит и варварская и эллинская мудрость в некоем растерзании, распятии, — не в том, о коем повествует баснословие Дионисово, а в том, коему учит богословие вечного Логоса». [693]
Если прав Гераклит: «Логос прежде был, нежели стать земле»; [694] прав Августин, что «христианство было всегда, от начала мира до явления Христа во плоти»; [695] прав Шеллинг, что «всемирная история есть эон, чье содержание вечное, начало и конец, причина и цель — Христос»; и если мы верно угадали тайну Востока и Запада — того, что миф называет «Атлантидою», Откровение — «допотопным», а наука — «доисторическим» человечеством, — откинутую назад на все человечество, в мистерии-мифе о страдающем Боге, тень Христа, —
это есть тень будущего, а тело во Христе (Кол. 2, 17);
если все это верно, то Церковь, соединяя в слове «Страсти», πάθη, passio, свой совершенный религиозный опыт с предчувственным опытом всего человечества, поступило с божественной мудростью.
Так же удивительно, и, кажется, только от двухтысячелетней привычки мы и этому уже не удивляемся, — что Церковь, считая греховною всякую «страсть», а святым — лишь «бесстрастие», не побоялась назвать величайшую святыню свою «Страстями».
Что такое «страсть»? Крайнее во всем духовно-телесном существе человека напряжение воли. В слабых, не очень страстных желаниях человек знает, или думает знать несомненно, что желает себе добра, а не зла, все равно в чем — в низшем ли наслаждении, физическом, или в высшем духовном блаженстве; знает, что хочет не погубить, а спасти душу свою. Но по мере того, как напряжение воли растет, желание становится все более страстным, — воля раздвояется, противоречит себе и противоборствует: человек все меньше знает, чего хочет себе, — добра или зла, блаженства или страдания, душу свою погубить или спасти, пока, наконец, на последних пределах страсти перестает это знать уже совсем. Воля в страсти у человека раздвояется так же, как у стоящего на краю пропасти, когда он хочет от нее бежать, спастись и броситься в нее, погибнуть. Здесь, на крайней точке страсти, с волей происходит нечто подобное тому, что с разумом, на той же крайней точке, — в логических противоречиях, антиномиях (конец — бесконечность пространства и времени, делимость — неделимость материи, свобода воли и необходимость), где разум сам на себя восстает, рушит свой собственный закон тождества, говорит одному и тому же «да» и «нет», как бы изнемогая в агонии, смертном борении с безумием. Та же агония постигает и волю в крайнем безумии страсти. Это всего очевиднее в сильнейшей из всех страстей — половой, где не только физическая боль становится иногда наслаждением для грубой похоти, но и духовное страдание — блаженством для нежнейшей любви; где одно с другим неразделимо смешаны, как два разделенные в корнях, а в верхушках сросшиеся дерева, так что любящий иногда не знает, чего хочет — ласкать или терзать любимую, умереть за нее или ее убить.