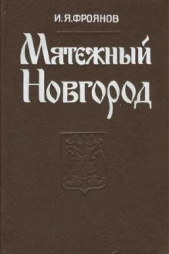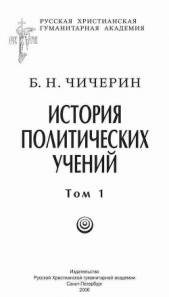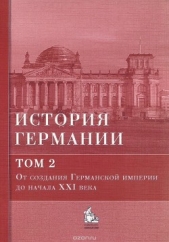Избранные произведения
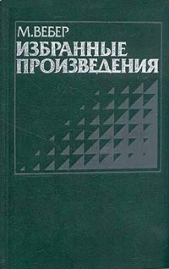
Избранные произведения читать книгу онлайн
Книга представляет собой сборник работ по социологии одного из ведущих западных социологов XIX–XX вв. М. Вебера (1864–1920), оказавшего и оказывающего значительное влияние на ее развитие. В работах, вошедших в сборник, нашли отражение его идеи о связи социологии и истории, о «понимающей социологии», концепция «идеальных типов» и др. М. Вебера нередко называют на Западе «великим буржуазным антиподом Карла Маркса» и даже «Марксом буржуазии»
В книгу вошли «Протестантская этика и дух капитализма», исследования по методологии науки, различные социологические статьи.
Рассчитана на социологов, философов, всех, интересующихся вопросами общественного развития.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Признать точку зрения профессора Лифмана хотя бы теоретически корректной, а следовательно, правильной можно лишь при следующих непременных условиях:
1) если речь идет исключительно о длительно действующих интересах рентабельности, с точки зрения константно мыслимых лиц, руководствующихся в качестве цели константно мыслимыми потребностями;
2) если потребности удовлетворяются при полном господстве частного капитала в рамках совершенно свободного рыночного обмена;
3) если государственная власть экономически не заинтересована и выполняет только гарантийные и правовые функции.
При этих предпосылках объектом оценки становятся рациональные средства для оптимального решения данной технической проблемы — распределения материальных благ. Однако полезные в чисто теоретической экономической науке фикции не могут служить основой практических оценок в реальности. По-прежнему остается в силе следующее: экономическая теория не может дать ничего иного, кроме указания, что соответствующим для технической цели x средством является либо только y, либо y наряду с у1, у2, что в последнем случае средства y, y1, y2 различаются по характеру воздействия и — в ряде случаев — по степени рациональности; что их применение и, следовательно, достижение цели x связано с «побочными результатами» z, z1, z2. Все это не более чем перевернутые положения каузальной связи, и возникающие в данном случае «оценки» не выходят за рамки установления степени рациональности мыслимого действия. Оценки могут быть однозначны в том — и только в том — случае, если экономическая цель и условия социальной структуры точно установлены и задача состоит лишь в том, чтобы выбрать одно экономическое средство из многих, и если сверх того эти средства различны только по степени гарантированности, быстроте реализации и количественной эффективности результата, в основных же аспектах, пусть даже очень важных с точки зрения интересов отдельных людей, они функционируют совершенно идентично. Лишь тогда рекомендуемое средство можно безусловно оценить как «технически наиболее правильное», и лишь в этом случае такая оценка действительно однозначна. Во всех остальных случаях, то есть таких, которые не носят чисто технического характера, оценка перестает быть однозначной; к ней присоединяются тогда другие оценки, не допускающие уже чисто экономического определения.
Однако установлением однозначности технической оценки в чисто экономической области однозначность окончательной «оценки», конечно, еще не достигается. Напротив, после этого только и начинается хаотическое переплетение бесконечного многообразия всевозможных оценок, преодолеть которое можно посредством сведения их к основным аксиомам. Ведь достаточно упомянуть хотя бы о том, что за «действием» всегда стоит человек. Для него усиление субъективной рациональности и объективной технической «правильности» действий как таковых, выходящих за известный предел (а с некоторых точек зрения и вообще), может стать угрозой важным (например, в этической или религиозной сфере) ценностям. Так, вряд ли кто-нибудь из нас следует высшим требованиям буддийской этики, отвергающей любое целенаправленное действие уже по одному тому, что, будучи целенаправленным, оно препятствует спасению. Однако «опровергнуть» буддийскую этику, как мы опровергли бы неправильное решение арифметической задачи или неправильный диагноз врача, совершенно невозможно. Впрочем, и без таких крайних примеров нетрудно понять, что даже самая «технически правильная» экономическая рационализация одним этим еще не легитимируется на форуме «оценок». Сказанное касается всех рационализации без исключения, в том числе и в такой как будто чисто технической сфере, как банковское дело. Противники рационализации такого рода совсем не обязательно должны быть глупцами. Производя оценку, следует всегда помнить о том, что техническая рационализация неизбежно ведет к сдвигам в области всех внешних и внутренних условий жизни. Законное для наших наук понятие прогресса всегда, без какого-либо исключения, связано с «техническим» аспектом, что должно здесь, как уже упоминалось, означать — со «средством» для достижения однозначно заданной цели. И никогда это понятие не возвышается до сферы «последних» ценностей.
В завершение сказанного я считаю необходимым заметить, что мне лично термин «прогресс» даже в тех узких границах, где его эмпирическое применение не вызывает сомнения, представляется неуместным. Однако запретить кому бы то ни было пользоваться теми или иными терминами нельзя, а недоразумений можно в конечном счете избежать. Прежде чем мы закончим, следует остановиться еще на одной группе проблем — на значении рациональности в эмпирических науках.
В тех случаях, когда нечто нормативно значимое становится объектом эмпирического исследования, оно в качестве объекта лишается своего нормативного характера и рассматривается как «сущее», а не как «значимое». Так, например, если статистическая операция сводится к установлению «ошибок» в определенной сфере профессионального исчисления — что может иметь вполне научное значение, — то правила таблицы умножения будут для нее «значимы» в двояком совершенно различном смысле. В одном случае их нормативная значимость будет, конечно, безусловно предпосылкой ее собственных подсчетов. В другом случае — когда объектом исследования будет степень правильного применения таблицы умножения — этот вопрос в чисто логическом аспекте примет иной характер. Тогда применение таблицы умножения теми лицами, чьи исчисления составляют объект статистической проверки, рассматривается как фактическая, привитая им воспитанием и поэтому привычная максима поведения, действительное применение которой устанавливается в зависимости от ее повторяемости, совершенно так же, как объектом статистических подсчетов могут быть определенные явления психического заболевания. Тот факт, что таблица умножения нормативно «значима», то есть «правильна», в том случае, когда «объектом» является ее применение, вообще не рассматривается как предмет исследования и логически совершенно безразличен. Проверяя статистические подсчеты, проведенные исследуемыми лицами, статистик вынужден, конечно, в свою очередь следовать той же условности, применению таблицы умножения. Однако ему совершенно так же пришлось бы применять «неправильные» с точки зрения нормативной оценки методы исчисления, если бы они считались «правильными» в какой-либо группе людей и в его задачу входило бы статистически обследовать степень повторяемости их фактического, «правильного» с точки зрения этой группы применения. Таким образом, для эмпирического, как социологического, так и исторического, рассмотрения наша таблица умножения, превращаясь в объект исследования, становится только конвенционально значимой в определенном кругу людей максимой практического поведения, которую применяют с большей или меньшей степенью приближенности, и ничем иным. При объяснении пифагорейской теории музыки всегда приходится исходить из «ложного» (для нашего знания) определения, в соответствии с которым 12 квинт равны семи октавам. Совершенно так же и в истории логики необходимо принимать историческую данность противоречивых (с нашей точки зрения) логических построений; по-человечески понятен гнев по поводу «абсурдных домыслов», которым разразился в этой связи один достойный всяческого уважения историк средневековой логики; однако к науке это уже не имеет отношения. Подобная метаморфоза нормативно значимых истин в конвенционально значимые мнения, которой подвластны все духовные образования (включая логические и математические идеи) с того момента, когда они становятся объектом рефлексии, рассматривающей их под углом зрения их эмпирического бытия, а не их (нормативно) правильного смысла, существует совершенно независимо от того факта, что нормативная значимость логических и математических истин является вместе с тем безусловной априорной данностью всех эмпирических наук. Менее проста их логическая структура в той (уже затронутой нами выше) функции, которую они осуществляют при эмпирическом исследовании духовных связей, что следует в свою очередь тщательно отделять от их положения в качестве объекта исследования и от их положения в качестве a priori данных условий. Каждая наука, изучающая духовные и социальные связи, всегда есть наука о человеческом поведении (под данное понятие подпадает также любой акт мышления и любой психический habitus [169]). Наука стремится «понять» это поведение и тем самым, «поясняя, интерпретировать» его процесс. Здесь мы не можем заниматься сложным понятием «понимание». В этой связи нас интересует только один его специфический аспект — «рациональное истолкование». Мы «понимаем», конечно, без каких-либо объяснений, когда мыслитель «решает» определенную проблему таким способом, который мы сами считаем нормативно «правильным», когда, например, какой-либо человек «правильно» считает, что для задуманной им цели он применяет «правильные» (с нашей точки зрения) средства. Наше понимание этих актов столь очевидно именно потому, что речь идет о реализации объективно «значимого». Тем не менее не надо думать, что в этом случае нормативно правильное предстает — в логическом аспекте — в той же структуре, как в своем общем значении в качестве априорного условия научного исследования как такового. Напротив, его функция в качестве средства «понимания» ничем не отличается от той, которая осуществляется при чисто психологическом «вчувствовании» в логически иррациональные связи эмоционального и аффективного характера, когда задача сводится к их понимающему познанию. Средством понимающего объяснения является здесь не нормативная правильность, а, с одной стороны, конвенциональная привычка исследователя и педагога мыслить так, а не иначе; с другой — способность при необходимости, понимая, «вчувствоваться» в мышление, отклоняющееся от того, к которому он привык, и представляющееся ему поэтому нормативно «неправильным». Уже тот факт, что «неправильное» мышление, «заблуждение» в принципе столь же доступно нашему пониманию, как «правильное», доказывает ведь, что мышление, принимаемое нами в качестве нормативно «правильного», выступает здесь не как таковое, а только как наиболее понятный конвенциональный тип. А это приводит нас к последнему выводу о роли нормативно правильного в социологическом знании.