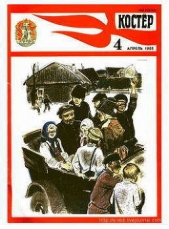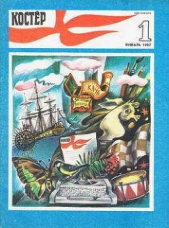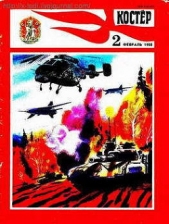Сочинения

Сочинения читать книгу онлайн
В настоящее издание сочинений Н. Ф. Федорова (1828–1903), оригинального мыслителя-энциклопедиста и утописта, основателя «космического» направления в русской научно-философской мысли, включены главные его произведения из двухтомника «Философия общего дела», еще до революции ставшего библиографической редкостью, а также статьи и письма из недавно обнаруженных рукописных материалов к 3-му тому. Знакомство с идейным наследием Федорова поможет читателю углубить представление о сложных путях развития русской философской мысли XIX в. Книга рассчитана на всех интересующихся историей русской философии
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Еще вреднее, может быть, влияние французской выставки в Москве, в центре русской промышленности. Кроме увеличения спроса на французские произведения русские друзья французской промышленности ожидают как великого блага, что совершеннейшая в мире промышленность вызовет в нашей промышленности подражание, т. е. не только увеличит движение от сел в города, но и нынешних фабричных, временных лишь горожан заставит порвать последнюю связь с селом, сделав их специалистами, посвятившими себя исключительно фабричному делу, так что Св. Пасха окажется уже бессильною возвратить их к полям, к могилам предков, как это было до сих пор, когда праздник Пасхи, этот весенний праздник, вызывал движение рабочих из городов в села, вызывал возвращение к селам, к земледельческим работам. А между тем голод 1891 года у нас в России, как и засуха в 1893 году во Франции, когда во многих деревнях Нормандии и в других частях Франции были вынуждены пить грязную воду, как об этом уже выше упоминалось, настоятельно требует не только не отвлекать, а даже приковать внимание всех, людей всех специальностей, ученых всех наук, к селу, к тем условиям, в которых живет село, чтобы не могла ускользнуть от внимания малейшая возможность регуляции метеорическим и вообще растительным процессом, так как только такое разностороннее внимание и может привести к открытиям; отвлекать же внимание от этого дела, от регуляции метеорическим процессом, в такое время, как наше (1893 год), устройством выставки может только самый злейший враг не только России, но и Франции. Если же союз с Францией должен выразиться выставкою в Москве, то не может не родиться вопрос: что лучше — дружба ли с Францией или же война с Германией; что лучше — грозное ли нашествие на нас французов в 1812 году или же соблазнительное, развращающее нашествие на нас тех же французов в 1891 году, губительное не только для России, но и для самой Франции, как подтачивающее ту опору, на которую она возлагает свои упования. Этот вопрос столько же важен для Франции, сколько и для России, и для первой даже больше важен, чем для последней; если Франция желает ослабить своего будущего союзника в войне с Германиею, то ничего лучшего не могла придумать, как выставку. Если ход цивилизации, культуры, т. е. вырождения телесного и душевного, неизбежен, то такому бедствию должна прежде всего подвергнуться Германия, а потом уже Россия. Германия и умирая может, однако, сказать, что она недаром жила. А Россия?!.. Хуже всего, что Россия не сознает опасности, как не сознает ее, конечно, и Франция… Выставкою, устроенной в Париже, у нас или восхищались, или же молчали, потому что не хватало смелости говорить против культа всего интеллигентного класса.
Выставка имеет целью сделать Россию данницею французской промышленности, имеет целью эксплуатацию, это мирное завоевание, т. е. то, чего немцы думают достигнуть войною, Франция думает достигнуть под видом дружбы. Для нас, может быть, выгоднее не только война с Германией), но и первоначальное поражение, которое заставило бы Францию отказаться от преследования нас своей дружбою. Французская выставка в Москве — это приглашение гувернера или гувернантки для всей России. В деле нашего подчинения Западу, нашего обезличения дальше идти нельзя, если уже партия, считающая себя самобытною (славянофилы), определяет православие, в котором видит нашу отличительную черту от Запада, веротерпимостью, составляющей принадлежность именно Запада, и притом эпохи упадка, когда иссякла всякая вера, потеряна всякая надежда на истину и на такое благо, которое могло бы объединить всех, которое исключало бы рознь. Бесплодность трехсотлетнего проповедования веротерпимости на Западе, казалось, могла бы нас чему-нибудь научить; бесплодность этой проповеди, казалось, могла бы дать познать все ничтожество этой терпимости. Определять православие веротерпимостью тем удивительнее, что православие само себя определило не терпимостью ко вражде и розни, а именно печалованием о всякой розни и вражде; да и не веротерпимостью только определяется православие у самобытной партии, а веротерпимостью, соединенною с уважением к чужой вере, т. е. к вере западной, а вся вера, вся надежда, вся любовь Запада заключается в этой выставке — она соединяет и католиков, и протестантов, и евреев, в нее верили и Хомяков, и Аксаковы, и Самарины, а западники молились и молятся на нее.
Городская роскошь и составляет предмет спора между буржуазией и рабочими, между либеральною и социалистическою партиями, хотя предмет раздора и не называется настоящим именем. Эта же роскошь, производство которой считается делом, достойным человека, мешает и пятому сословию, поселянам, понять настоящее свое положение; эта же роскошь держит и все науки в разъединении и заставляет их работать тлению, т. е. прихотям города. Когда пред мыслию, понявшей причины раздора, откроется великое отеческое дело, в котором все науки могут объединиться, объединиться не искусственно, а естественно, тогда науки, насильственно отделенные одна от другой и порабощенные городом, освободясь, будут возвращаться часть к части, каждая к своему составу. Все науки, сознавшие в своих специальных органах свое служение небратскому делу, представят картину воссоединения паук и соединения служителей этих наук (т. е. ученых) в один собор; это и будет всенаучный музей 9. Мысль, исследующая раздоры в видах соединения для общеотеческого дела, объединит и художников всех направлений, всех мест в создании одной поэмы, иллюстрируемой, драматизируемой и не оканчивающейся со смертью даже целого поколения, так что произведение одного поколения будет одним лишь актом драмы. Мысль, действующая всеми художественными средствами, не разъединяемая пространством, не разрываемая временем, действующая воспитательно, объединит искусство, соберет и всех художников в один всехудожественный собор, в один храм-музей, соединяющий в себе все искусства. Драма объединит все направления в одном естественночеловеческом направлении, и объедим пение это произойдет из исследования причин разъединения по месту и времени, причин, препятствующих драме быть объединенным действием всех мест и многих поколений. Не может и не быть единства, если произведение выходит от сотрудников, литераторов, художников всех редакций, пришедших к согласию, — когда произведение это есть их общее создание. Три пресловутых единства драмы, которых требовали классики и которые отрицали романтики, могут быть приняты теми и другими, если в основе будет единство самой действительности, потому что единство места, несмотря на обширность пространства, обнятого действием, действительно будет, если местные будут действовать согласно с центральными; будет и единство времени, если произведение последующих поколений станет только продолжением произведения предыдущих; так что, как бы ни продолжительно было время, которое произведение обнимает, единство ни времени, ни действия утрачено быть не может. Итак, это будет музей трех единств: объединением направлений выразится единство действия, в объединении всех местностей в общем центре выразится единство места и, наконец, в такой последовательности поколений, при которой младшие поколения действуют под руководством старших, выразится единство времени.
Истинный музей есть музей всех трех способностей души, объединенных в памяти, т. е. он есть выражение согласия и полноты душевной, ибо он есть разум не только понимающий, но и чувствующий утраты, и не только чувствующий (т. е. не скорбящий только), но и действующий для возвращения утрат, для воскрешения погибших.
Музей не допускает отвлечения от всеобщего блага ни знания, или истины, ни художества, т. е. красоты, но только память делает благо всеобщим. Если из разума, или знания, выделить нравственное, то безнравственное знание будет служить чувственности, произведет промышленность и подчинится ей, т. е вследствие такого выделения нравственности из разума произойдет город. При отвлечении от знания нравственного начала знание не может оставаться даже и чистым, т. е. равнодушным к чувственности; город же без чистого знания — это идеал четвертого сословия, которое понимает только приложения, а чистым знанием не дорожит. Знание, отвлеченное от художественного, от прекрасного, будет чистым, мертвым. Художественное, отвлеченное от нравственного, обратится в промышленность (в мануфактурное производство) — в промышленно-художественный музей; отвлеченное от нравственного, художественное не может быть даже искусством для искусства: прекрасное, отделенное от нравственного, будет чувственной красотой, которая создает общество полового подбора, живущее для настоящего и забывающее прошедшее; если же отделить от прекрасного истинное, то получится обман, обольщение. Благо, отделенное от прекрасного, будет страданием, а не блаженством; отделенное от прекрасного, благо не может быть даже мертвым, бездушным аскетизмом; благо же без знания, невежественное благо, обращается или в личную, эгоистическую Добродетель (в заботу о личном лишь спасении, о личном самоусовершенствовании), обращается в добродетель, бессильную уничтожить зло, об уничтожении которого она и не помышляет, или же в добродетель гражданскую, которая состоит в том, чтобы делать действительное зло одним в видах доставления воображаемого блага другим. Нравственное, благое, истинное, прекрасное стали отвлеченными понятиями и должны быть необходимыми принадлежностями жизни и составлять самое существо человека. Чувство прекрасного, или эстетическое чувство, возможно только у разумно-нравственных существ, и предметом эстетического чувства может быть только одушевленное существо, т. е. нравственно-разумное, ибо если и находят природу прекрасной, то только потому, что приписывают ей душу, чувство. Если находят прекрасное в произведениях искусства, то тоже лишь потому, что видят в них нечто живое. Потому-то истинно прекрасным и может быть только общество, т. е. одушевленные существа, союз одушевленных существ. Приписывать прекрасное только обществу — это не значит ограничивать область прекрасного, ибо искусство есть напоминание, а воскрешение, как осуществление в памяти хранимого, есть расширение общества, а следовательно, и области прекрасного на все поколения. Точно так же и природа, когда будет управляема разумом, будет выражением человеческой мысли и чувства, т. е. будет прекрасной. Эти три свойства Бога и человека — благо, истина и красота — неделимы пи между собою, неотделимы и от того, кому принадлежат, не могут делаться эти свойства принадлежностью и отдельных сословий; истина не может быть принадлежностью ученых, а прекрасное — принадлежностью художников. Прекрасное не может принадлежать бездушным вещам, ни даже лицам, взятым в их розни или в их подчинении; прекрасное, истина и благо принадлежат только Богу как Триединому и человеку как многоединому.