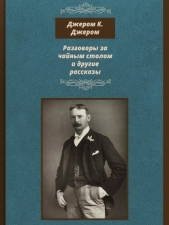В поисках любви

В поисках любви читать книгу онлайн
В книгу включены два романа известных английских писателей: семейная сага «В поисках любви» Нэнси Митфорд и повествование о жизни молодых провинциальных интеллигентов «Сцены провинциальной жизни» Уильяма Купера.
«В поисках любви» Нэнси Митфорд — семейная сага, рассказ о человеческих судьбах, в которых многое — а может, все — решала любовь…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Как славно, с удовольствием, — отозвался Дэви слабым голосом, — а сейчас, если не возражаете, я пойду прилягу. Да, спасибо, непременно чайку с утра пораньше — необходимо восполнить потерю влаги во время сна.
Он попрощался со всеми за руку и поспешил из комнаты, заметив, как бы про себя:
— Жениховство — так утомительно…
— Дэви Уорбек — дост, — объявил Боб, когда мы спускались наутро к завтраку.
— Это правда, — сонным голосом сказала Линда, — кажется, потрясающий дост.
— Да нет, я хочу сказать — настоящий. На букву «у», понимаешь? «Дост. Дэви Уорбек», я проверял, все правильно. — Бобу в то время служил настольной книгой «Дебретт» [20], он так и жил, уткнувшись в него носом. Итогом этих изысканий было, к примеру, сообщение, сделанное им в чьем-то присутствии Люсили: «Происхождение рода Радлеттов теряется во мгле глубокой древности». — Он всего-навсего младший сын, а у старшего есть наследник, значит, боюсь, не быть тете Эмили леди. Отец у него — только второй барон в их роду, первый получил этот титул в 1860, а сам род ведется с 1720, раньше идет женская линия… — Голос Боба замер. — Так что — вот.
Мы услышали, как Дэви Уорбек, сходя по лестнице, говорит дяде Мэтью:
— Нет, это никоим образом не Рейнольдс [21]. В лучшем случае — Принс Хор [22], и из самых слабых.
— Свинского умишка, Дэви? — Дядя Мэтью приподнял крышку горячего блюда.
— Мозгов, вы хотите сказать? Да, пожалуйста, Мэтью, так прекрасно усваиваются…
— А после завтрака я покажу вам нашу коллекцию минералов в северной галерее. Тут уж, ручаюсь, вы согласитесь, что это нечто стоящее, считается одной из лучших коллекций в Англии — досталась мне от старого дядюшки, он всю жизнь ее собирал. А пока — как вам мой орел?
— Да, будь эта вещь китайской работы, ей цены бы не было. Но, как ни жаль, — Япония, не стоит даже бронзы, которая пошла на отливку. Пожалуйста, апельсинового джема, Линда.
После завтрака мы повалили гурьбой в северную галерею, где в застекленных витринах хранились сотни камней. Такая-то окаменелость, такое-то ископаемое; больше всего дух захватывало от плавикового шпата, от ляпис-лазури, меньше — от крупной кремневой гальки, словно подобранной на обочине дороги. Ценные, единственные в своем роде, камни были семейной легендой. «Минералы из северной галереи сделали бы честь иному музею». Мы, дети, относились к ним с почтением. Дэви осматривал камни внимательно, кой-какие подносил к окну и изучал при свете. Наконец с глубоким вздохом произнес:
— Замечательная коллекция. Но вы, вероятно, знаете, — все они больны?
— Больны?
— Очень, и болезнь слишком запущена, уже ничем не поможешь. Год, два, — и они погибнут, можно хоть сейчас спокойно выбрасывать.
Дядя Мэтью был в совершенном восторге.
— Черт знает, что за малый, — говорил он, — и все-то не по нем, первый раз такого встречаю. У него камни, и те болеют ящуром!
ГЛАВА 5
За год после замужества тети Эмили произошло наше с Линдой превращение из девочек, чересчур ребячливых для своего возраста, в подростков, праздно тоскующих о приходе любви. Одним из последствий ее замужества стало то, что я теперь проводила почти все свои каникулы в Алконли. Дэви, как и другие любимцы дяди Мэтью, решительно отказывался видеть в нем что-либо пугающее и со смехом отмахивался от теории тети Эмили, что излишне долгое пребывание в его обществе дурно сказывается на моих нервах.
— Вы просто жалкие нюни, — говорил он, — если позволяете себе расстраиваться из-за этого дутого людоеда.
Дэви оставил свою квартиру в Лондоне и переехал к нам в Шенли, где, пока шли занятия в школе, мало что изменилось в нашей жизни с его появлением, хотя присутствие мужчины всегда приносит благие перемены в дом, где живут одни женщины, — так, занавески, покрывала, одежда тети Эмили разительно переменились к лучшему — но на каникулы он любил забирать ее с собой, если не к своим родственникам, то в поездки за границу; меня же сплавляли в Алконли. Тетя Эмили, вероятно, рассудила, что, если надо выбирать между желаниями мужа и моей нервной системой, следует все-таки отдавать предпочтение первым. Несмотря на ее возраст, сорок лет, они, сколько я могу судить, были горячо влюблены друг в друга — им и вообще-то, наверное, было в тягость постоянно иметь меня при себе и следует поставить им в огромную заслугу, что ни разу, ни на единое мгновенье они не дали мне почувствовать это. Дэви, надо сказать, оказался и остается поныне идеальным отчимом, чутким, любящим, он никогда и ни в чем мне не мешал. Сразу принял меня как нечто неотъемлемое от тети Эмили и никогда не подвергал сомнению неизбежность моего присутствия в его семье.
К рождественским каникулам Луизе официально приспело время «выезжать», ей предстояло кататься по балам, чему мы бешено завидовали, хоть Линда и заявила пренебрежительно, что толпы кавалеров как-то не видно. Нам же предстояло ждать своей очереди еще два года — целую вечность, казалось нам, в особенности Линде, парализованной любовным томлением, от которого у нее, не загруженной уроками или иной работой, не было средства отвлечься. У нее, честно говоря, и не осталось теперь других интересов, разве что охота, — даже зверье как будто утратило для нее былую привлекательность. Дни, свободные от охоты, мы проводили в безделье: либо просиживали без конца за пасьянсом, одетые в твидовые костюмы, из которых мы выросли, так что на талии то и дело отлетали крючки и петли — либо торчали в достовом чулане и «мерились». Запаслись рулеткой с делениями и состязались — у кого больше глаза, тоньше запястья и щиколотки, талия, шея, длиннее ноги и пальцы. Победительницей неизменно выходила Линда. Когда переставали «мериться», заводили разговоры о любви. Разговоры были самого наивного свойства, ибо для нас в ту пору любовь и замужество означали одно и то же: мы знали, что они длятся вечно, до самой могилы, но и потом им нет конца. Увлечение грехом прошло; Боб, по возвращении из Итона, растолковал нам все про Оскара Уайльда, и прегрешенье, лишась таинственности, явилось нам скучным, неромантическим и недоступным пониманию.
Обе мы, разумеется, были влюблены, и обе — в мужчин, с которыми даже не были знакомы: Линда — в принца Уэльского, я — в пожилого толстого фермера с кирпичным лицом, который время от времени проезжал через Шенли. Любовь была сильная и мучительно сладостная, она всецело владела нашими помыслами, но думаю, мы смутно догадывались, что со временем на смену этим возлюбленным явится кто-то настоящий. Эти были, так сказать, для того, чтобы место не пустовало, пока его не займет тот, кому оно предназначено. Что возлюбленный может появиться и после замужества, мы даже мысли не допускали. Мы жаждали настоящей любви, а настоящая бывает только раз в жизни, она стремится к освященью и вслед за тем пребывает незыблема. Мужья, как мы знали, не всегда хранят верность, и к этому нужно быть готовой, нужно понимать и прощать. «Я верен был тебе. По-своему, Кинара» [23], — надобно ли тут лучшее объясненье? Но женщины — другое дело, лишь самые низменные способны дарить свою любовь и себя не единожды. Не очень понимаю, каким образом подобные воззрения могли спокойно уживаться во мне со все еще восторженным преклонением перед матерью, этой пустопорожней вертихвосткой. Вероятно, я относила ее к совсем особой категории женщин — той разновидности, «чей лик зовет в поход армады кораблей» [24]. Как видно, отдельным историческим фигурам принадлежать к ней не возбранялось, но мы с Линдой проявляли сугубую взыскательность во всем, что имело отношение к любви, и сами на такого рода славу не посягали.
В ту зиму дядя Мэтью обзавелся новой пластинкой для своего граммофона, называлась она «Тора». «Живу в краю цветущих роз, — гудел низкий бас, — но край снегов встает из грез. О, говори же, говори со мною, Тора!» Ставил ее дядя Мэтью утром, днем и вечером, она как нельзя более подходила нам под настроение, и не было, казалось, другого имени такой пронзительной красоты, как «Тора».