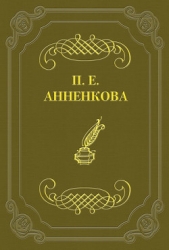Песок под ногами

Песок под ногами читать книгу онлайн
Молоденькая учительница, готовая на все, чтобы превратить своих учеников — трудных подростков — в людей, умеющих и думать, и чувствовать.
Но — не слишком ли много сил отдаёт она питомцам?
Остались ли в ней еще силы, чтобы любить и быть любимой, чтобы отстаивать собственное право на ОБЫЧНОЕ ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ?
Неужели она обречена на одиночество?
Или, возможно, нежданная любовь встретит ее в самый трудный миг?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ошибка. Сослепу померещилось. Открыла глаза. Сцена шла пятнами.
Показалось.
Смотрел.
Шура подалась к сцене.
Даша тоже стала смотреть на сцену.
Вспотели ладони. Почему так стыдно? В чём она виновата? Она предала Шурку. И должна уйти, исчезнуть. Должна?! Она не хочет. Она хочет, чтобы всегда было так полно, так горячо, так остро, как сейчас.
На сцене Чацкий закричал: «Карету мне, карету!»
Даша засмеялась. И испугалась: уйти, немедленно уйти.
Нет.
Мы гурьбой идём домой. На нас сыплется белый снег.
Даша то бежит вперёд, то отстаёт. Она смеётся. Давно она не смеялась, и невольно мне передается её радость — мне тоже становится беспричинно весело. Даша потянула Шуру к сугробу, усадила в него, вытащила, закружила, обняла. Шура хохочет. Счастливым щенком вертится перед ними Костя. Мы снова вместе, как в Торопе.
— Что хотел сказать Товстоногов своей постановкой? Он как-то странно поставил, — теребит меня Олег.
«Не надо ничего обсуждать!» хочу попросить его, но ему уже отвечает Шурка — она вся тянется из Дашиных рук к нему:
— Чацкий сбежал, уступил своре, не сумел бороться. — Шурка оглядывается на Глеба.
Ленинград тает, мягко стелется снегом. Хитрит: чуть-чуть отогреет нас и снова заледенит. Зачем умные разговоры? На нас падает снег. Мы вместе. Хоть небольшая передышка. Просто радость, и ничего больше не надо.
— А вы что думаете? Почему не скажете, что думаете вы? — Олег загородил мне дорогу.
Что случилось с Олегом? Он всегда молчит на уроках, в сочинениях не может связать двух слов, а сегодня заговорил. О чём он спросил? Я не знаю, что ответить, а ответить обязательно надо, и я радостно улыбаюсь ему.
Олег обиделся, пошёл от меня. Хочу окликнуть его, но ничего не могу с собой поделать — улыбаюсь, и всё тут.
— Чацкий вовсе не бежал. — Какой Глеб длинный! Почему я не замечала этого раньше? Не за один же вечер он так вымахал! Да он просто распрямился! — Шура, ты говоришь «свора». Мещанство и сытость — это сила, Шура, очень сильная. Захотеть от неё свободы, суметь из неё вырваться — разве значит бежать?
Шура сморщилась, словно от зубной боли, удивлённо смотрит на Глеба. Я тоже не понимаю, что с ним. Он говорит звонко, быстро. Надо же, как на него подействовал Грибоедов!
— Разве не проще согласиться с их условиями и преуспевать? Для этого, Шура, надо так мало: стать одной из масок и включиться в игру. — Глеб шагает широко, размахивает руками. — Чацкий остался самим собой, понимаешь? Сохранил себя. Лучше быть одному, чем с толпой, я всё-таки в этом убеждён, абстрактно. И если бы не наш класс, я бы… — Он засмеялся. И я засмеялась вслед.
Мы шли гурьбой, путались друг у друга под ногами. Я всегда хотела, чтобы так было.
Улица Росси, Садовая, Невский мы дружно сворачиваем с них в тихие улицы.
— Бежать — это бежать от самого себя. Это другое, это сдохнуть, — сказал неожиданно Глеб и осторожно, исподтишка посмотрел на Дашу. Даша не отвела глаз, не опустила, ребёнком, увидевшим чудо, смотрит на Глеба! И Глеб под её взглядом смутился, а Даша прижалась ко мне.
Шура метнулась было встать между ними и отступила.
Я ещё улыбалась, но праздник уже прошёл.
У меня замёрзли руки, потому что в Москве я забыла варежки.
— А ведь жизнь его разрушилась, — виновато улыбнулся мне Костя, — правда ведь, разрушилась. Я, наверно, мещанин, но идти против всех нельзя. Это значит обречь себя на поражение. Я боюсь. Я бы не смог. Лучше потерпеть, лучше сломать себя, лучше делать и жить, как все.
Снег под ногами был грязный, растоптанный нами.
Может, показалось? Может, всё по-прежнему? Почему я так испугалась? Глеб, наконец, погладит Дашу по голове. Пусть ей будет, наконец, полно! Ей по плечу праздник. Сегодня третья ночь нового года. Новый год раздаёт подарки. Чего я так испугалась? Я же всегда хотела этого?!
Может быть, вовсе не в Торопе, а в эту ночь началась наша беда…
— А я с Костей согласен, зачем идти против всех? — говорит вызывающе Олег. — Нужно же соблюдать раз заведённый порядок!
Наконец-то всё хорошо. Даша — с Глебом. Олег заговорил… А вон бочком, между ребятами, пробирается к нам Геннадий. Снег идёт. И мы все вместе. Это хорошо, что мы едва тащимся и путаемся друг у друга под ногами.
Вдруг Олег падает.
Геннадий, подставивший ему подножку, хохочет, скрестил на груди руки.
Кидаюсь к Геннадию, как к дочке, если бы та сильно разбилась. Его сузившиеся глаза навстречу мне то вспыхивают, то гаснут. Пытаюсь поймать его недающийся взгляд.
— Что ты, Гена?!
— А пьеса-то о несчастной любви, — издалека, из-за ребячьих спин, голос Ирины. — Чего вы встали?
— Что с тобой? Ты совсем больной. — Дотрагиваюсь до его плеча. Он отступает. Глажу ладонью его шершавое ворсистое пальто. Ладонь моя, наконец, согревается. — Идём, Гена.
Ребята топчутся. Олег, наконец, отряхнулся — в узкую полоску собрались его губы.
— Прости его, Олег, он нечаянно.
Олег ошалело смотрит на меня и идёт прочь.
— Вы всё время бьёте ниже пояса! — вдруг тонко кричит Геннадий. — А я отомстил, это моё личное дело, никого не касается. Вы-то знаете, что значит всю жизнь быть изгоем? В последнее время все проявляют ко мне внимание. И вы. Но меня ведь никто не любит, все брезгуют мною. И вы. Я знаю. — Он бы сейчас побежал от нас и, быть может, исчез навсегда, но мы окружали его. Он смотрел на нас слезами.
Вот тебе и «Горе от ума».
Во мне жива Торопа, мучает меня, как кошмарный сон.
Провалился мой эксперимент: мои усилия смягчить ребят бесполезны — живы в них и эгоизм, и жестокость. «Горе от ума» расслабило меня, и снова я уязвима, снова Торопа вернулась, вот она, на холодных улицах Ленинграда!
Разболелась голова. Едва бреду, и опять мне холодно, как в войну. Руки ломит: сцепила их в рукавах пальто.
Ирина повела Геннадия вперёд и шла словно на цыпочках, вытянувшись к нему, не шла — плыла. Плыли рядом ушанка и лисья рыжая шапка. Фёдор ловил кинокамерой снег под фонарями, наши ноги, редких прохожих, незнакомые дома ленинградских улиц, лица ребят, а больше всех — Иринино.
— Вы ломаете меня. — Опять Геннадий? — По-вашему: счастлив тот, кто живёт со всеми общей жизнью. По-вашему, надо жить для другого. Да? А вот я не умею даже для себя. Для себя бы научиться жить! Каждый человек — замкнутый мир, живёт и умирает в одиночку.
Олег лениво побрёл в сторону, к сугробам.
— Мы никогда не придём, — пробормотал Фёдор. — А мне надо бы перезарядить.
— Это ложь, что в одиночку! — вырвалось у меня. — Если я лежу в параличе или в другой тяжёлой болезни, я включаю в свою болезнь находящихся рядом людей — за мной нужно ухаживать. Все мы друг от друга зависим и жить друг без друга не умеем. Если не сложилась жизнь, если не состоялся как человек…
— Вам кажется, что вы живёте для нас. — Геннадий жалобно смотрит на меня. — На самом деле мы просто пешки, суррогат вашей несложившейся личной жизни. Вы нами спасаетесь. У вас-то, может, и устроится всё, а в ребятах уже закрепится деформированная, ненормальная психика, и они всю жизнь будут несчастны. Что же вы молчите?
Даша отодвинула меня от Геннадия, встала на моё место.
— Ля-ля-ля! — громко прокричала она. — Ну-ка, притормози. Тебя никто не информировал, что ты подлец? — поинтересовалась она и отрывисто обрубила: — Молчи, если вместо серого вещества носишь опилки!
Теперь Геннадий жалобно смотрит на Дашу. Как странно морщится его лицо…
— Зачем так, Даша? — тяну её за руку. — Он говорит то, что думает. Почему он не может говорить то, что думает? — Пытаюсь победить обиду, но она заболотила меня. А что, если и в самом деле я уродую их? Только при чём тут моя личная жизнь? Разве так уж она не сложилась? Господи, а Геннадий откуда знает? Он молчал три года. И заговорил. Почему он должен был заговорить, как хочется тебе? И зачем ты обидела его? Ты обидела его первая: при всех сказала, что у него не сложилась жизнь, что он не состоялся как человек. Сама зарекалась всегда быть к ребятам бережной… — Зачем ты, Даша? — повторяю я и, глядя на Геннадия, прошу: — Пойдёмте. Завтра поговорим, насвежую голову. Надо выспаться. Пойдёмте!