Виолончелистка
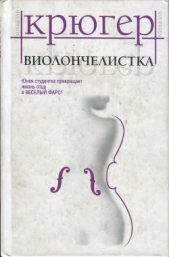
Виолончелистка читать книгу онлайн
В доме немолодого композитора, давным-давно разменявшего свой талант на коммерческий успех, неожиданно появляется Юдит, его дочь от случайной связи с певицей-венгеркой — дочь, о которой он ничего не знал.
А вслед за Юдит в уединенный дом ВРЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ — во всей ее полноте и многообразии!
Череда смешных ошибок и фантасмагорических нелепостей, язвительная сатира на современные нравы европейских музыкантов и необычная история любви — все это в блестящей «Виолончелистке»!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Досадно, что я никак не мог запомнить их всех по именам. Они просто проходили через мою не слишком упорядоченную жизнь, некоторые из них хотя бы умели готовить, но большинство — только пить. Когда по утрам они, успев прихорошиться, заглядывали мне в лицо с выражением искреннего материнского сожаления по поводу моей, как они считали, бытовой неустроенности, меня охватывала жуткая злость, побороть которую можно было, лишь мгновенно перевернувшись на живот. И если следующим вечером какая-нибудь Сильвия или Таня названивала мне, интересуясь, что я поделываю, я просил ее прийти как можно скорее, потому что как раз сейчас готовлю еду. Таким образом, я имел возможность отужинать в компании и понаблюдать за разнообразными физиономиями.
Лишь одна из них не походила на своих коллег — русская с миленьким, напоминавшим грушу личиком, изо всех сил старавшаяся испортить свое приятное и мелодичное контральто у Грюцмахера. Она не убегала из комнаты, когда я начинал играть свои сочинения, читала мне в подлиннике Ахматову и Мандельштама, а когда я усаживался за свои коммерческие мелодии, недовольно морщилась и уходила в другую комнату. Всегда, когда я наталкивался на нее в длинном, уставленном книжными полками коридоре, выходя туда, чтобы размяться и почерпнуть вдохновения, она таким скорбным голосом осведомлялась, почему мне грустно, что я не выдерживал и тут же принимался хохотать.
— А тебе, — спрашивал я каждый раз, — почему тебе грустно?
В ответ она, тряхнув своей ежедневно менявшей цвет кудлатой головой, пела какую-нибудь светлую, будто пронизанную лучами солнца песенку, и все вставало на свои места.
Однажды она попросила меня дать ей взаймы десять тысяч марок. Деньги понадобились ей, чтобы переправить своего восьмидесятилетнего дядюшку из Киева на Запад. Нам предстояло отправиться в Пассау и дожидаться его у места переправы. По пути, в машине, поджав ноги под себя и обхватив меня за шею, она рассказывала мне о своей жизни — это была изобиловавшая хитросплетениями и грустная история, то обрывавшаяся, то начинавшаяся вновь и не имевшая конца.
В Пассау я должен был дожидаться ее в машине, а она с какой-то бумажкой в руке убежала. Я видел, как ее рыжеволосая голова исчезла в толпе, и сразу же почувствовал себя очень одиноким и брошенным, что со мной случалось крайне редко, то было одиночество, складывавшееся из печали и стыда. Но не успел я задержаться в этом состоянии одиночества, как раздалось тихое постукивание по ветровому стеклу, и когда я, перепугавшись до смерти, повернул голову, то увидел рядом с ней боязливо съежившегося старичка с потертым чемоданчиком и портфелем в руках.
Не скупясь на поклоны, мы познакомились, потом дядя и племянница уселись на заднее сиденье, где неподвижно и безмолвно просидели до самого Мюнхена. Лишь раз я почувствовал ее руку у себя на затылке, но не успел дотронуться до нее, как она снова исчезла в полумраке салона.
Деньги были возвращены мне постепенно, в десять приемов, а саму девушку я больше не видел. И Грюцмахер понятия не имел, куда она девалась. На память о себе она оставила один вопрос. Иногда проходя мимо книжных полок, я задаю его себе: «Тебе грустно?» И каждый раз после этого по пути в кухню запеваю ту самую веселую песенку.
Среди моих знакомых была и одна моя истинная почитательница. Себя она видела художницей и внушила себе, что своими рисунками сумеет придать моей музыке зримое воплощение. Она появлялась на всех моих немногих концертах, требовала с меня автографы и всегда бесстрашно и дружелюбно выкладывала мне о том, какое впечатление произвели на нее мои произведения, так что уже очень скоро я просто не мог не пригласить ее поужинать со мной после выступления. Очень многие принимали ее за мою жену и, если она опаздывала, всегда спрашивали, где моя супруга.
Звали ее Соня, она была высокой, ладно сложенной и располагала копной светлых волос, даже слегка шокировавшей меня — точно такая же была у моей матери. Ко всему иному и прочему ей вдруг вздумалось написать мой портрет, и она как-то уговорила меня целый день позировать ей. Из Карлсруэ Соня явилась с двумя чемоданами, словно одержавший победу полководец, вошла в мою квартиру и легким движением руки преобразила унылую атмосферу в искусственную радость — там что-то задрапировала, здесь подвязала, стратегически верно разместила привезенные цветы, на книжные полки водрузила нормальные винные бутылки, вообще вела себя так, будто остаток жизни собралась провести здесь, в моем логове.
Когда с приготовлениями для написания портрета было покончено, мне велели поставить записи моих сочинений, они были необходимы ей для вдохновения. После этого Соня заставила меня несколько раз кряду переодеться, я перепробовал с десяток рубашек и шесть брюк, успевших поднакопиться в моем гардеробе. Пока я вертелся перед зеркалом, она критическим взором оглядывала меня. Раз-два-три, подбадривала она меня, видя жалкие попытки поскорее натянуть брюки, при этом отчаянно изворачиваясь, чтобы от ее пронырливого взора ушло то, чего я не желал выставлять напоказ. Комментарий: завтра покупаем тебе новые трусы. Тут едва теплившаяся во мне воля к сопротивлению и вовсе упала до нуля. И чем сильнее я старался не подчиниться Соне, тем большую ее озабоченность это вызывало, и моя молчаливость лишь распалила ее красноречие.
Своими сумасбродными и в тех обстоятельствах эффективными акциями она сломила мое упрямство. Например, она не чуралась иногда и коснуться меня, положить ладошку на живот с тем, чтобы я правильно дышал все эти долгие часы сидения в неподвижности, обеспечить адекватную технику дыхания, как она выразилась: нам же не нужно, чтобы вы в один прекрасный момент взяли да свалились с кресла. И, намеренно употребив вежливую форму обращения, намеренно же удерживала руку между солнечным сплетением и областью гениталий до тех пор, пока у меня буквально голова не шла кругом. Но главное оружие было введено в бой, когда мы оба достигли состояния обманчивого спокойствия: я будто мертвец застыл в кресле, а она напротив меня с альбомом для рисования на коленях.
Вдруг она вскочила, вне себя от злости, и принялась распекать меня за то, что она, дескать, видеть не может мою физиономию.
— Это не вы! — вопила она, сжав кулаки. — Передо мной какой-то слизняк, жалкая тряпка, но никак не художник, не композитор — ни полета фантазии, ни глубины, ни намека на метафизическое! Хотя бы взглянули на меня, что ли!
В ее голосе чувствовалась угроза, а я тем временем уставился на носки своих туфель, и в этот момент и произошло то, чего я вот уже несколько часов с растущим непокоем ждал: Соня извлекла из своей роскошной гривы один за другим гребни, поочередно зажимая их в зубах, затем содрала с себя свитер и швырнула его куда-то в угол. Я, будучи совершенно сбит с толку, не знал, что делать, внезапно мне почудилось, что я вижу перед собой мою мать в невиданном и непозволительном виде: в виде обнаженной натуры. Одному Богу известно, каким же образом ей удалось столь стремительно освободиться от всего, что скрывает женское тело от чужих взоров, но внезапно Соня оказалась передо мной в чем мать родила, причем рядом — протяни руку и дотронешься.
Но о том, чтобы дотрагиваться, и речи быть не могло. Куда там, я — в своем лучшем костюме, омертвелый — сидел в кресле, а особа из Карлсруэ, супруга некоего мелкопромышленника (тоже ее выражение), отрасль — машиностроение, монополист, — яростно набрасывала на лежащем у нее на коленях ватмане, периодически покрикивая: сейчас, сейчас мы покончим с этим. Мне было строжайше воспрещено и шевельнуться, не говоря уже о том, чтобы зажечь свет. Предметы, находившиеся в комнате, на мгновение пробуждались, затем снова погружались в коматозную спячку. Каким-то чудесным образом запасы ватмана в альбоме истощились, сидение завершилось. Больше сегодня все равно не удастся ничего сделать, со вздохом подытожила художница. Она даже вздыхала точь-в-точь как моя мать. В результате всех этих стечений обстоятельств я был не в силах и пошевелиться, однако блондинка проворно извлекла меня из кресла, оттащила в ванную, где с грехом пополам ополоснула, после чего раздела и дотащила до постели. Все остальное — на совести ночи.


























