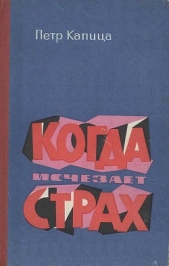Страх полета
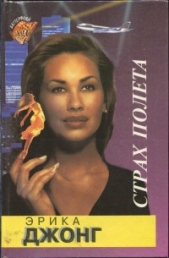
Страх полета читать книгу онлайн
Российский читатель впервые получает возможность познакомиться с двумя самыми известными романами американской писательницы Эрики Джонг. Книги Джонг огромными тиражами расходились на ее родине, переводились на языки многих стран. И по сей день книги Джонг, пришедшие на гребне сексуальной революции, вызывают неоднозначную оценку.
Героиня ее романов — женщина ищущая, независимая, раскованная, а подчас и вызывающая. Она так же свободна в самовыражении, как и автор — Эрика Джонг, для которой в литературе не существует запретных тем.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я пугаю тебя? — спросила я Адриана.
— Ты?
— Некоторые мужчины боялись меня.
Адриан засмеялся.
— Ты просто душечка, — сказал он, — Киска, как говорят твои американцы. Но это не причина.
— Часто у тебя проблемы?
— Найн, фрау доктор, и, черт возьми, мне надоел этот допрос. Это абсурд. У меня нет проблем с потенцией — просто твоя великолепная задница вызывает у меня благоговение, и я не хочу трахаться.
Последний удар для секса — член, лежащий и ни к чему не годный. Последнее оружие в войне полов: безвольный член. Знамя вражеского лагеря: член на полувзводе. Символ апокалипсиса: член с ядерным зарядом в головке, едва не разрывающий сам себя. И ведь есть несправедливость, которую вряд ли когда удастся исправить: и это не то, что мужчинам принадлежит замечательная штука, называемая пенис, а то, что у женщин есть дивное всепогодное влагалище. Ни ураган, ни ливень, ни темнота или ночь не страшны ему. Оно всегда на месте, и всегда готово к бою. Несколько не по себе, когда об этом думаешь. Не удивительно, что мужчины ненавидят женщин. Они-то и выдумали миф о женской неполноценности.
— Я отказываюсь терпеть булавочные уколы, — продолжил он, не подозревая о том, какой каламбур сам собой наворачивается на язык. — Я не желаю, чтобы меня заносили в реестры и приклеивали ярлык. Когда ты все-таки сядешь писать обо мне, ты не будешь знать, герой я или антигерой, ублюдок или святой. У тебя не будет возможности отнести меня к какой-нибудь категории.
И в это мгновение мне безумно захотелось его. И его безвольный член доставал до таких моих точек, которые и не снились иным сверхнапряженным.
Пароксизмы страсти, или Мужчина под кроватью
Среди всех форм безумной храбрости самой выдающейся мне представляется храбрость женщины. Иначе было бы гораздо меньше замужеств, и, главное, несравнимо меньше тех диких приключений, ради которых отвергается все — даже замужество…
Нельзя сказать, что для меня было что-то необычное в том, чтобы безумно влюбиться в кого-то. Весь год я только этим и занималась. Я была влюблена в ирландского поэта, который заодно разводил свиней на ферме в Айове. Я любила романиста шести футов росту, выглядевшего, как настоящий ковбой, но способного лишь писать аллегории об эффектах радиации. Я любила голубоглазого литературного критика, который восторженно отозвался о моей первой книге. Я любила угрюмого художника (все три его жены кончили жизнь самоубийством). Я любила весьма симпатичного профессора, специалиста по философии итальянского Ренессанса, который заодно был специалистом подклеить и затащить в постель свеженькую девочку. Я любила ООНовского переводчика (иврит, арабский, греческий), у которого было пятеро детей, больная мать и семь неопубликованных романов в его полуразвалившейся квартире в Морнингсайд-Драйв. Я любила бледного биохимика, который водил меня на ланч в Гарвардский Клуб, и до того был уже женат на двух писательницах (обе оказались нимфоманками).
Но ничто не случается просто так. Конечно, были объятия на задних сиденьях машин. А эти долгие поцелуи в нью-йоркских кухнях со следами тараканов, среди бутылей теплого мартини. Были и флирты после обильного ланча. И щипки среди кип бумаг Бутлеровской библиотеки. И объятия после поэтических чтений. И сцепленные руки на открытиях галерей. И долгие телефонные разговоры, полные намеков. И письма с двойным смыслом. Были и прямые и откровенные предложения (обычно от мужчин, которые меня вовсе не привлекали).
Но ничто не случается просто так. Лучше я пойду домой и буду писать стихотворения о человеке, которого люблю (кто бы он ни был). В конце концов, я переспала с достаточным количеством парней, чтобы понять, что один член не так уж и отличается от другого. Так чего же я выискивала? Почему у меня играла кровь? Может быть, я не доводила эти флирты до логического завершения потому, что чувствовала, что мужчина моей мечты продолжает ускользать от меня и я снова останусь в дураках. Но кто он, мужчина моей мечты? Единственное, что я могу сказать: я ищу его с шестнадцати лет.
С шестнадцати лет, когда я называла себя фабиановской социалисткой, с шестнадцати лет, когда я отказывалась ласкаться с парнями типа «ай-лайк-Айк» [33], с шестнадцати лет, когда я плакала над «Рубайями», с шестнадцати лет, когда я плакала над сонетами Эдны Сент Винсент Миллэй, я мечтала о мужчине, чье тело и ум будут одинаково обалденными. У него лицо Пола Ньюмена и голос Дилана Томаса. Тело у него как у «Давида» Микеланджело («бугрящееся небольшими очаровательными мускулами», как я объясняла своей лучшей подруге Пии Витткен, которая обожала статую «Дискобол»; мы обе были студентками факультета искусства и истории). У него ум Бернарда Шоу (или, по крайней мере, каким считает шестнадцатилетняя девочка ум Бернарда Шоу). Он предпочитает третий концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром и песенку «Маленькие утренние часы» Френка Синатры всей остальной музыке. Он разделяет мою любовь к гобеленам, к «Бейте дьявола» [34], к монастырям, ко «Второму полу» Симоны де Бовуар, колдовству и шоколадному муссу. Он понимает, по каким причинам я презираю сенатора Маккарти, Элвиса Пресли и мещан-родителей. Я никогда не встречала его. В шестнадцать лет это кажется невыносимым. Позже я научилась брать в долг так, чтобы не поднимать при этом шума. Я и сама сознаю, что контраст между плодом моего воображения (Полом Ньюменом, Лоуренсом Оливье, Хэмпфри Боггартом, «Давидом» Микеланджело) и прыщавыми юнцами мог лишь вызвать улыбку. Я же лила слезы. Как и Пиа. Мы переживали в мрачном особняке ее родителей на Риверсайд-Драйв.
— Я представляю его этаким, ты знаешь, сплавом Лоуренса Оливье в «Гамлете» и Хэмпфри Боггарта в «Бейте дьявола» — с белозубой улыбкой и совершенно фантастическим телом — прямо как у «Дискобола». — И она показала на свой довольно-таки заметный животик.
— А во что ты одета? — поинтересовалась я.
— Мне видится нечто вроде средневекового свадебного наряда. На мне белый берет с ниспадающей фатой и красное, может быть, бордовое, бархатное платье, и очень зауженные туфли. — Она немедленно нарисовала эти туфли своим вечным пером с черными чернилами. Потом она изобразила все свое одеяние — платье с подчеркнутой талией, высоким воротом и длинными узкими рукавами. Оно было придумано гениальным модельером, чей талант следовал из чувственности изделия (в то время Пиа была тяжеловатой, но совершенно плоскогрудой).
— Я представляю, что все происходит в монастыре, — продолжала она. — Уверена, это можно было бы устроить, если знать нужных людей.
— Где вы будете жить?
— Ну, в таком жутком старом доме в Вермонте — заброшенном монастыре, или в аббатстве, или что-нибудь подобное… (Мы ни капельки не сомневались в том, что в Вермонте найдутся и заброшенные монастыри, и старинные аббатства.) С такими очень грубыми перилами и застекленной крышей. Там будет одна огромная комната — одновременно и студия, и спальня — с большой круглой кроватью и черными сатиновыми простынями на ней. Еще там будет огромное количество сиамских котов — мы дадим им звучные имена вроде Джона Донна и Мода Ронна, и Дилана — ты же понимаешь.
Да, по крайней мере, мне тогда казалось, что понимаю.
— А себя… — продолжала она, — …я представляю таким сплавом Джины Лоллобриджиды и Софи Лорен… — У Пии были темные волосы. — …Как это тебе? — Она всосала щеки, закрутила волосы на макушке и взглянула на меня своими широко открытыми глазами.
— Знаешь, по-моему, тебе больше подойдет тип Анны Маньяни, — сказала я, — домашний и основательный, но ужасно чувствительный.
— Может быть… — Она задумчиво вглядывалась в зеркало.
— Нет, это замечательно, — заявила она через некоторое время. — По крайней мере, нам уже не встретить в жизни никого хуже, чем мы сами. — И она скорчила мерзкую рожу.