Виолончелистка
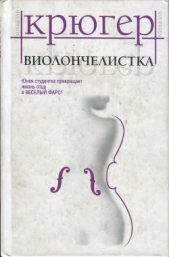
Виолончелистка читать книгу онлайн
В доме немолодого композитора, давным-давно разменявшего свой талант на коммерческий успех, неожиданно появляется Юдит, его дочь от случайной связи с певицей-венгеркой — дочь, о которой он ничего не знал.
А вслед за Юдит в уединенный дом ВРЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ — во всей ее полноте и многообразии!
Череда смешных ошибок и фантасмагорических нелепостей, язвительная сатира на современные нравы европейских музыкантов и необычная история любви — все это в блестящей «Виолончелистке»!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это все, что в наших силах! — выкрикнул он, задумчиво пожевывая бородищу. — Мы обязаны сказать свое слово в истории, свое, а не партийное. Мы должны признать прошлое, как предысторию в том числе и своей жизни, ради осмысления развития искусства как средства выражения нашего существования. Ведь мы существуем не с Октябрьской революции, друг мой, как считают профессора, вытурившие меня из университета! Банда полуобразованных уголовников, увязавшая возвышенное с низостью, выдающееся с постыдным. Как нам, скажите на милость, завоевывать будущее? — вопросил он, пыхнув трубкой.
Ответить мне было нечего. Будто парализованный припечатался я к липкой коже кресла, силясь изобразить заинтересованность. Понятие «подпитывающее единение», неоднократно прозвучавшее из его уст для обозначения синтеза Платона и Канта, эхом отдавалось у меня в голове, будто поддразнивая и вынуждая положить его на музыку. А каково было бы мое «подпитывающее единение», знай я о таковом? Что подпитывало меня? Музыка? Допустим. Но следовало ли, если мне уж так не терпелось поверить моему другу-философу, выкладывать перед ним этот свой последний и единственный идеологический источник?
— Лишь христианство, — вырвал меня господин Бела из размышлений, — лишь оно в состоянии призвать чудо и вселить его в человека, лишь христианству известна метафора безымянного, отличающая великие религиозные учения. Никакому искусству, тем более марксистскому, не заполнить ту лакуну, что возникла в результате бездумного искоренения христианства. И авангардистскому искусству тоже не сравниться в первородной силе с этим великим учением. Впрочем, все великие учения зародились на Востоке, — хихикнул Бела. — Нет-нет, не на нашем Востоке, а на том, который располагается куда восточнее стран Варшавского договора. От нас уж ничего не поступит. Нам нечего предложить. Единственные, кто еще едет к нам, это западные интеллектуалы, они являются сюда на поиски истины. Боже Великий, какие же они глупцы, какие дураки! Долго это не продлится, придет время, и Восток сам пожалует к ним, друг мой, и если у вас нечего показать за исключением парочки музеев или переделанных под музеи церквей, парочки философов-марксистов и чуточки карманных денег, тогда — да будет Господь милостив к вам.
По-видимому, в какой-то момент меня все же притомили эти словопрения. Во всяком случае, я внезапно словно очнулся после какого-то кошмара и так заехал по столику, что опрокинул все три опустошенные нами бутылки токайского — одна из них рухнула прямо на пса, сладко спавшего под аккомпанемент тирад об оскудении западной культуры. Он повернул ко мне свою кривоватую мордочку, уши Дьёрдя оттопырились настолько минорно, что я, кряхтя, выскользнул из кресла на пол и погладил его. Только тут я заметил, что кресло напротив опустело. Герменевтик решил вернуться в родные пенаты работнуть над своей теорией излома — по его представлению, лишь излом в состоянии вдохнуть жизнь в эскиз мира, оставленный нам Богом.
Обдумывая эти последние слова, которые решил специально запомнить, я вдруг услышал смех, доносящийся из соседней комнаты. Это была Мария. Когда я наконец поднялся, собираясь вместе с псом отыскать хохотунью, та в сопровождении философа показалась в дверях. Я бессильно упал в кресло. Значит, инструктаж продолжится. И если бы Мария, восторженно крича, не бросилась ко мне целоваться, герменевтик, тем временем откупоривавший четвертую и пятую бутылки вина, продолжил бы проклятия в адрес мрачного преходящего, которое он столь блистательно отличал от вечного.
Меня так захватила речь господина Белы, что непрекращавшиеся лобзания и чмоканья Марии, которые, вероятно, служили своего рода оплатой за долгое ожидание, даже показались мне излишними, если не сказать неуместными, и я, чувствуя ее влажные губы на шее, отчаянными кивками призывал философа продолжать. Но ситуация оказалась непоправима. Какое-то время спустя Мария наконец выпустила меня из объятий — их, во всяком случае, хватило, чтобы отбить у меня охоту к философии. Да и Беле, вероятно, пришлась кстати эта кратковременная разгрузочная пауза — он, вытянув ноги, блаженствовал в кресле отсутствующего и презираемого коммунистического стихотворца, попивая густое токайское, а Мария тем временем выспрашивала меня, чего это ради мы сидим в пальто у открытого окна. Дьёрдь и кошки внимали нам.
Если верить моим часам, было уже три с четвертью, когда Бела мгновенно уснул. Мария, поняв всю безнадежность попыток пробудить его, вытащила меня из кресла, выудила ключ от квартиры из пиджака Белы, закрыла окна, погасила свет и повела меня в соседнюю квартиру, где мы запросто, будто в сотый раз, улеглись на уже разобранную постель герменевтика.
15
После своего с моральной точки зрения не совсем удавшегося отъезда из Будапешта я получил первую весточку от Марии, причем уже в Мюнхене, куда меня неожиданно потянуло на поиски лучшей жизни. Берлинский климат был во вред моей музыке. Переизбыток революционности и острая нехватка скрипичных квартетов. Так как мы с Марией уговорились, что ни в коем случае не станем доверять искренность наших отношений почте, которая, по ее глубочайшему убеждению, работала исключительно на службу безопасности, что, впрочем, не особенно и скрывалось последней, роль почты приходилось брать на себя частным лицам. Но поскольку и им мы не решались доверить всего, объяснялись мы друг с другом посредством поэзии или газетных вырезок, так что нередко приходилось корпеть, разгадывая смысл скверно переведенных текстов Петефи или Ади, поскольку, несмотря на некоторые навыки толкования, я не всегда мог экстраполировать описанную автором боль на нас с Марией.
В особенности это относилось к сборнику стихов Ади, в котором Мария в определенных местах между страницами вложила засушенные цветы. Кончилось тем, что я выучивал целые поэмы наизусть, так и не поняв, какое, собственно, отношение они имеют к переживаемым нами чувствам. И мне не оставалось иного выхода, как избрать в качестве основы нашей вынужденной разлуки совокупную всемирную скорбь, благодаря отваге одного переводчика из ГДР ставшую доступной и для немцев. Поскольку в нашем положении мы были склонны толковать решительно все, даже внешнеполитические события, исключительно сквозь призму своих отношений, патетически-невинные вирши Эндре Ади служили еще более невинным примером наших тайных любовных посланий.
В один прекрасный и довольно знойный для весны день меня вызвонил некий музыкальный критик, пожелавший безотлагательно встретиться — ему необходимо передать для меня срочное послание из Будапешта. Звонок от него стал для меня полной неожиданностью. Хотя критик успел опубликовать в парочке малоизвестных у нас журналов несколько кратких статей, да и то выдержанных в столь пригнетенной риторике, что дочитать их до конца могли лишь фанатики, эффект от этой подчеркнуто малоформатной публикации был поразителен. Где бы критик ни появлялся, его встречали с чувством подавленного восхищения. Его миссию с ходу описать крайне сложно, но устно передать ее можно в двух словах: история музыки завершилась, музыкальный материал исчерпан. Просвещенная ирония, намертво въедавшаяся во все, к чему он прикасался и что могло с натяжкой служить примером законченности композиции, умерщвляла любое мало-мальски многообещающее произведение. И мне никак не светило вымолить у него пощаду; уже во время телефонной беседы я весьма пессимистично оценил перспективы едва начатого скрипичного квартета, наброски которого как раз покоились на моем письменном столе.
Местом встречи критик избрал пивную на открытом воздухе, она приглянулась ему во время ранних визитов в Мюнхен своим весьма недурным выбором вин. Что касалось меня, я всегда избегал пивных на открытом воздухе и ни за что не додумался бы использовать их в качестве дегустационного зала. Я почти не сомневался, что критик примется грузить меня своей тягомотиной, но так как встреча с ним позарез нужна была мне, я тут же согласился. Естественно, после этого звонка ни о какой работе и речи быть не могло — необходимо было срочно разобраться в его намеках и параллелях.


























