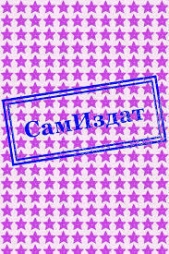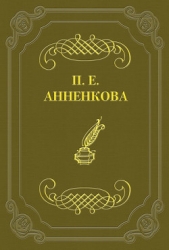Прощальный ужин

Прощальный ужин читать книгу онлайн
В новую книгу всемирно известного французского прозаика Паскаля Лене вошли романы «Прощальный ужин», «Анаис» и «Последняя любовь Казановы». И хотя первые два посвящены современности, а «Последняя любовь Казановы», давший название настоящей книге, – концу XVIII века, эпохе, взбаламученной революциями и войнами, все три произведения объединяют сильные страсти героев, их любовные терзания и яркая, незабываемая эротика.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Воробьи вернулись, все такие же суетливые и крикливые, и заново обосновались в моем ставне. Я вдруг осознал, что мы с Эллитой знакомы уже почти год. Теперь, будя меня на заре, воробьи не причиняли мне беспокойства, потому что они не могли прервать моих сновидений.
Теперь я виделся с Эллитой каждый день, забегая к ней хотя бы минут на пятнадцать и пытаясь читать учебник по философии в автобусе, который вез меня к ней: то были моменты великого счастья и коварных приступов тошноты из-за тряской дороги. Я ликовал, попадая в пробки, несмотря на все мое нетерпение, опьяненный уверенностью, что Эллита ждет сегодня, как ждала вчера, и что завтра я увижу ее снова. Ее улыбка, когда она открывала мне дверь, стоила часов, проведенных мной ради нее в автобусе. Однако та же самая улыбка освещала ее лицо и тогда, когда я говорил ей о своей любви или подходил к ней, чтобы поцеловать, и даже тогда, когда она уклонялась от моих поцелуев, «потому что уже поздно» и потому что дед, должно быть, уже ждал ее к ужину. То была улыбка довольства. Эллита отвечала на мою страсть спокойным довольством: я был вне себя от счастья, стоило мне лишь подумать, что она согласна видеть меня каждый день, и хотя я знал, что меня ждут, всякий раз, когда дверь дома распахивалась передо мной, я испытывал невероятное удивление перед этим своеобразным чудом. Эллита, напротив, не выказывала при виде меня никаких заметных эмоций, а, казалось, просто принимала, что я пришел и нахожусь на своем месте в ее доме. Она, скорее всего, ценила мое ухаживание, зная, что самый смелый жест, который я смогу себе позволить, всегда будет порывом быстро умчавшегося ветра над океаном робости. Мой пыл приветствовался в той мере, в какой оставался управляемым, и улыбка, встречавшая меня и мои слова обожания, соглашавшаяся иногда встречать мои поцелуи, была улыбкой, доверительно напоминавшей о моих обязанностях робкого и почтительного влюбленного.
Между тем какое-то удовольствие в моих визитах Эллита, должно быть, все же находила, поскольку в противном случае она дала бы мне понять, что я ей надоел, однако она всего лишь не удивлялась им, и именно в этом заключалась вся разница ее отношения ко мне и моего – к ней, именно в этом заключалась суть взаимного непонимания. Моя страсть казалась ей естественной и такой же неизбежной, как хорошая погода после дождя, потому что она была красива, бесконечно красива, и потому что каждое человеческое существо, встречавшееся на ее пути, являлось всего лишь зеркалом этого совершенства.
В субботу и воскресенье я приходил к ней после обеда и оставался до вечера; иногда барон Линк предлагал мне поужинать с ними. Эллита не отвергала моих поцелуев: она терпела их со снисходительной любезностью, как если бы речь шла всего лишь о немного тяжеловесных комплиментах, которые, вызывая легкое смущение, все же льстили ее самолюбию. Итак, я видел ее так часто, как мне того хотелось, я целовал ее, участвовал в ее жизни, и мы вместе принимали ее друзей, тех молодых людей, которые еще совсем недавно производили на меня столь подавляющее впечатление. Итак, я добился всего того, о чем еще шесть месяцев назад не смел даже мечтать. Но я по-прежнему не был уверен, что Эллита испытывает ко мне нечто большее, чем своего рода нежность, которая из-за изрядного кокетства да еще, может быть, из-за неспособности защититься от моих приставаний, кстати, не таких уж и дерзких, иногда походила на любовь.
Каждая из привилегий, которыми Эллита постепенно одаривала меня, казались предоставленными после упорного сопротивления, а я всякий раз оказывался все дальше и дальше от своей цели, которая заключалась не в том, чтобы добиться от нее как можно больших вольностей или чтобы отлучить от дома какого-нибудь юношу, будившего во мне ревность, а просто в том, чтобы в один прекрасный день она так или иначе показала мне, что действительно любит меня. Она позволяла мне многое, но наподобие тех чересчур предупредительных друзей, которые не могут вам подарить вещь без того, чтобы не сопроводить свою осторожную расточительность словами, что «это так, пустяк», что «это безделица», способными совершенно обесценить вещицу, которой довелось поменять владельца вследствие какой-то досадной случайности.
Мое желание, я хочу сказать – мое желание обладать ею физически, было не столь настоятельным, как потребность добиться от нее хотя бы самого скромного признания, хотя бы едва заметного свидетельства любви. Одно-единственное слово вознесло бы меня на вершину блаженства, но я подозревал, что мне будет легче добиться самых решающих, последних милостей ее тела, заполучить их, словно упавший с дерева плод, чем заставить ее произнести столь важное для моей жизни «я тебя люблю»: Эллита знала, что в некоторых случаях слова более реальны, чем вещи.
Сколько же мне понадобилось лет, сколько пришлось пережить приключений с другими женщинами, чтобы лучше понять природу того, что наивный и неуступчивый влюбленный, каким я был тогда, называл «двоедушием» Эллиты: я не мог примириться с тем, что в один прекрасный день она позволила мне поцеловать себя, что позже она позволила мне другие ласки (на которые я отважился лишь после того, как она преодолела мою робость с помощью весьма ясных намеков), и при этом не испытывала ко мне той же всепоглощающей и устойчивой страсти, что и я. Может, сейчас она любит меня, а пройдет немного времени, и забудет, как будто ничего и не было? Может, приоткрывая вместе со мной в своей постели книгу сладострастия, предоставляя мне свое тело в виде разрозненных мимолетных мгновений, она лишь старается обмануть мое желание? А главное, не является ли ее молчание, с помощью которого ее душа ускользает от моих заклинаний, от моих молений еще более решительно, чем плоть – от моих отчаянных объятий, признаком величайшей неискренности?
Даже тридцать лет спустя я узнал бы из тысячи своеобразный тембр ее голоса и особенно манеру мелодично произносить, почти петь редко ронявшиеся ею слова. Она ни с кем не была болтливой. Меня она слушала всегда с едва заметной улыбкой, которая казалась мне поначалу не то ироничной, не то снисходительной, но на самом деле ее молчание было молчанием довольства. Да и что, собственно, она должна была отвечать, коль скоро и без того в обмен на мое восхищение она дарила мне, как и всем остальным, свое расположение и свое совершенство?
Она любила меня, как любят очень юные девушки, с некоторым опасением и как бы в вопросительной форме. В обращении со мной она вела себя как та кошка, что осторожной лапкой трогает и переворачивает во все стороны впервые попавшееся ей лакомство, иногда притворяясь, что забыла про него, и уходит в сторону, чтобы через минуту вернуться. Эллита оказывалась неуловимой не только из-за своего кокетства, или точнее, ее кокетство (которое действовало мне на нервы еще сильнее оттого, что оно представляло собой самое обманчивое, но одновременно и самое достоверное проявление ее универсальной и таинственной «женственности»), являлось, скорее всего, средством защиты против всего незнакомого, каковым в свою очередь я становился для нее, когда она видела меня во власти желаний и страсти, которые в то время внушали ей, вероятно, опасения и казались столь же непонятными, как мне – ее сдержанность.
Как я уже сказал, барон иногда оставлял меня поужинать: он приходил за нами в комнату Эллиты. Дважды отрывисто стучал в дверь и входил, не дожидаясь ответа. В иные дни он заставал нас бурно обсуждающими последний увиденный фильм. Другой раз притворялся, что не замечает ни легкого румянца на щеках внучки, ни в беспорядке лежащих на кровати подушек. Его неизменная вежливость, как обычно, не позволяла прочесть ни одной из его мыслей.
Мы ужинали втроем в маленькой, обшитой дубом гостиной, которую он предпочитал столовой, излишне просторной и имеющей из-за люстр и зеркал слишком холодный вид. Слуга ставил столик для бриджа, который убирался сразу после трапезы, так как барон не любил пить кофе на утратившей свежесть скатерти: остаток вечера мы проводили, сидя в больших креслах и на диване, стоявших у стены напротив окна.