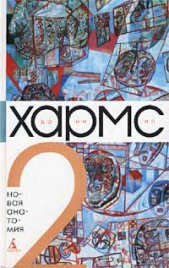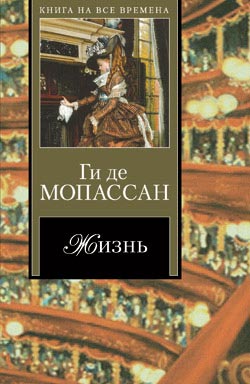Осенняя женщина

Осенняя женщина читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Отвяжись, урод!» — выдавил из себя Колька, тоже косясь на дверь спальни в надежде, что мать в эту самую секунду выйдет оттуда и увидит, как этот театрал обращается с ее единственным отпрыском.
Но дверь комнаты оставалась закрытой, а урод продолжал гнусно улыбаться ему в лицо: «На первый раз прощаю, сынок. Из нас двоих мужик тут я. И мне надо, чтобы ты это усек раз и навсегда. Будешь бухтеть — получишь по мозгам. Захочешь жить мирно — не пожалеешь. Мать твоя мне нравится. Понял?».
Речь театрала была убедительной и предельно лаконичной. Очевидно, что он привык расставлять все точки над «i», даже если это приходилось делать среди старых плащей и пальто в узкой прихожей незнакомой квартиры, половина обитателей которой питала к нему откровенную враждебность.
«Иди учи уроки», — он ласково оправил на груди Кольки свитер. Колька запоздало отпихнул его руку и скрылся в своей комнате. Мир вокруг явно изменился.
Поняла это и Валентина Ивановна, чутко приникшая ушком к двери и слышавшая весь диалог кавалера с сыном. «Боже, наконец-то! Мужик в доме!» — радостно запрыгало сердце в ее груди. Во-первых, личная жизнь разведенной женщины далека от идеала, как ни крути. А ведь буквально на расстоянии вытянутой руки маячил неприятный юбилей с цифрой 45, и душу точила тоскливая уверенность в том, что все у нее могло быть по-другому, если бы не замужество с отцом Кольки, бабником, каких свет не видел. Во-вторых, она уже давно сама себе призналась в том, что боится сына, не понимает его увлечений, не может уловить смысл его телефонных разговоров (типа «эмпег четыре не катит на четырехсотом камне») и смутно догадывается, из-за чего он так надолго запирается в ванной. И это ее родное чадо, которое всего каких-то десять лет назад читало понятные стишки про Винни Пуха, писало по ночам в кроватку, боялось принести двойку в дневнике и с увлечением рассказывало обо всем, что происходило за день! Разве она могла представить себе, что через такое короткое время чадо превратится в курящее, говорящее на незнакомом наречии, слушающее бессмысленную музыку и вечно пропадающее куда-то по вечерам таинственное существо. Это существо повесило на дверь своей комнаты жуткую надпись «ВСЕ СООБЩЕНИЯ ПРИНИМАЮ ПО ЕМЕЛКЕ» и двигалось по жизни само по себе, не посвящая мать в детали. Если сын чего-то хотел теперь от своей матери, то только чтобы она «не учила его жить». Да еще это уничтожающе-снисходительное выражение на его лице, когда она пыталась говорить с ним о чем-то, кроме бытовых мелочей. Как только возникала эта его ухмылочка, она сама себе казалась непроходимой идиоткой. Коленьке не помешали бы удила. Без них он гарцевал по своей воле и прихоти, и это, как она чутко угадывала своими материнскими инстинктами, не привело бы ни к чему хорошему. Такие удила имелись у Олежека. И она была совсем не против того, чтобы он ими воспользовался.
Вот только Кольке это не нравилось. Наглость и сила мамочкиного кавалера вызывали у него даже не раздражение (потому что раздражение — это привилегия взрослых, склонных трезво оценивать возможности и готовых пойти на компромисс с собственным деятельным нетерпением), а дикое, загнанное внутрь чувство протеста, не имевшего иного выхода, как изливаться в едких, вполголоса, замечаниях, бурчании и необычайной угрюмости. Но, казалось, Олега совершенно не беспокоили все эти признаки антипатии. Напротив, он их втайне от Валентины подогревал, потешаясь над бессилием подростка, полагавшего себя пупом земли.
«Что тебе надо?!» — мысленно с яростью вопрошал Колька, представляя своего новоявленного врага. А враг только ухмылялся, все больше овладевая вниманием матери. Их отношения представлялись ему такой неравной гнусностью, что он удивлялся, как этого не замечают другие. Дошло до того, что домой идти не хотелось. Он стал охотнее отзываться на приглашения школьных приятелей выйти в город попить пивка или отправиться к кому-то на «хату» смотреть футбол на огромном экране домашнего кинотеатра — гордости состоятельных родителей. Или допоздна играл в волейбол. Или просто шатался по улицам, лелея свою упрямую ненависть, как иной заботливый садовник лелеет прихотливые розовые кусты, с той лишь разницей, что Колькина ненависть плохо пахла. Она отравляла своим запахом все его существование. Она колола и не давала нормально жить. Жить, как раньше, без злобно стиснутых зубов и невольно сжимающихся кулаков. Ведь ненависть — дамочка, любящая постоянное внимание к себе, вечное, зацикленное самокопание и еще вопросы, ответы на которые никто никогда не даст.
А иногда ему казалось, что он мог бы понять и простить мать и ее Олега. Что-то подсказывало ему: люди не всегда обязаны делать именно то, чего от них ждут.
Такая снисходительность посетила Кольку на одной вечерней прогулке по городу. Он гулял со своей подругой Веркой. Она вообще умела умиротворять уже одним своим присутствием. Между ними пока не было никаких преград. Они часто встречались — иногда в городе, иногда у друзей. Учились они вместе, но до последнего времени как-то не замечали друг друга. И хоть в любви до гроба не клялись, однако чувствовали себя комфортно друг с другом. Не счастливо, но комфортно. А это иногда важнее какого-то призрачного счастья, вымышленного истеричными романистами. В этом поганом изобретении, придуманном в угоду домохозяйкам, они еще не нуждались, как десятилетние девочки не нуждаются в губной помаде и в туши для ресниц. Комфорт — вот что ценили пятнадцатилетние. Время романтиков рождало тринадцатилетних Ромео и Джульетт, готовых любую взаимную приязнь раздуть до невообразимых масштабов. Время циников рождало тинейджеров, целующихся, не вынимая жевательной резинки изо рта. Бедняга, вскричавший: «О tempora, о mores!» [6], и не подозревал, насколько его восклицание окажется актуальным. При любых временах.
Они с Веркой набрели на группу девчонок и пацанов, расположившихся на темном пятачке перед куском бетонного забора, обязанного своим существованием верным фанатам Виктора Цоя. Об этом свидетельствовали многочисленные надписи типа: «Ты знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро». Двое энтузиастов бацали на гитаре и барабане какую-то странную мелодию, оказавшуюся чем-то средним между негритянскими боевыми плясками и испанским фламенко. Стоял довольно прохладный октябрьский вечер, но компания излучала нездешние тепло и страсть. Возможно, в этом был виноват виртуозный барабанный ритм, рождавшийся под пальцами сосредоточенного паренька в вязаной шапочке. И в этой компании было явно веселее, чем в шикарно-буржуйской «Журавинке» с ее охраняемой стоянкой, с ее фитнес-центром, казино, рестораном и гостиничным комплексом, напротив которой располагалась хипповатая «стена памяти». Какое казино могло сравниться с этой безыскусной общностью пацанов и девчонок, подтанцовывающих под неудержимый ритм? За какие деньги можно устроить такой маленький праздник для молодой души, еще не знавшей поражений и страха, верившей, отчаянно желавшей верить в непременно светлое и радостное будущее? Да и что эти взрослые понимали в праздниках? Что они знали о таких вот стихийных сборищах у какой-нибудь неформальной городской достопримечательности, наполнявших сам воздух вокруг чувством свободы, необъяснимой приязни и симпатии ко всем? А ведь всего-то и нужны были для этого гитара, барабан и ловкие руки, чувствовавшие ритм.
Именно в этой совершенно незнакомой компании сверстников Колька ощутил слабое, еле уловимое желание дать зачахнуть своей ненависти, перестать удобрять ее полудетской ревностью и недетской обидой. Звезды, взошедшие на бесконечно сиреневом вечернем небе, говорили ему об этом. Барабанный ритм убеждал его в этом. Даже Виктор Цой с фотографии на стене среди надписей поддерживал его робкое желание. Этим вечером дела взрослых, их кичливость, их странное и избирательное чувство ответственности, их нотации и их самоуверенность утратили силу, растворились в чуть грубоватых аккордах гитарки, истончились, словно закатные разводы на самом последнем краешке вечернего неба. Чем была для него жизнь в тот момент? Теплой курткой с карманами, где грела руки Верка, прижавшаяся к нему сзади и выглядывавшая из-за его плеча; ядовито-оранжевыми городскими фонарями, свет которых не достигал их компании; глыбой Дворца Республики справа, подсвеченной так, что тот казался одним большим куском драгоценного розового мрамора. Осознание простоты жизни крылось и в спешащих по своим делам прохожих, и в шуршании бегущих машин, и в приятной прохладе, намекавшей на скорую перемену в погоде. Все остальное не имело большого смысла.