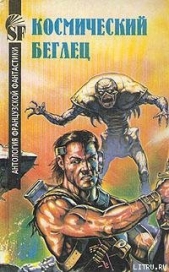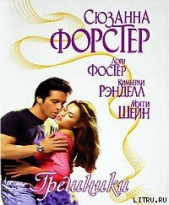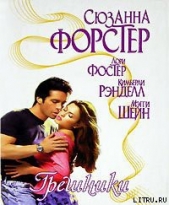Любимые и покинутые

Любимые и покинутые читать книгу онлайн
Роман писательницы Натальи Калининой — о любви, о женских судьбах, о времени, в котором происходят удивительные, романтические встречи и расставания, и не где-то в экзотической стране, а рядом с нами. Действие происходит в 40-е—60-е годы в довоенной Польше и в Москве, в большом областном городе и в маленьком доме над рекой…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Устинья, я пойду заниматься, — сказала Маша. Она стояла посреди веранды, прижимая к груди растрепанные тетрадки нот.
— С Богом, — машинально сказала Устинья. — Надень свитер.
— Нет, там очень жарко. И душно. Ну, я пошла.
И она стала медленно снимать с крючка возле двери клеенчатый плащ.
Устинья обратила внимание, как, уже сняв с крючка плащ, Маша обернулась и посмотрела на Толю, который стоял возле окна с опущенной головой. Хотела ему что-то сказать, но передумала, нарочито громко зашуршала плащом.
Она уже сделала первый шаг по лестнице — медленный и какой-то неохотный, — когда Толя сказал очень тихо, не поднимая головы:
— Можно я с тобой?
— Конечно. Только давай скорее, а то через два часа начнут собираться бильярдисты. Они так стучат…
Толя, все так же не поднимая головы, пересек веранду, стараясь держаться на приличном расстоянии от Устиньи.
Устинья глядела им вслед. Они медленно шли, обняв друг друга под широким, похожим на крыло гигантской летучей мыши, плащом. Она им завидовала. Она их жалела. Она понимала, что впереди их ждут не только розы.
Устинья не слыхала, как Николай Петрович поднялся по лестнице — она задумалась, подперев рукой правую щеку и глядя сквозь ветки сосен на мутно бирюзовое беспокойное море.
— Здравствуй, Устинья, — громко сказал Николай Петрович, снимая намокшую шляпу.
Она вздрогнула. Почему-то похолодело внутри, словно Николай Петрович застал ее за каким-то запрещенным занятием, и теперь ей предстоит оправдываться перед ним.
— Откуда ты? — произнесла она первые пришедшие на ум слова.
— Ясное дело не с неба. А где Машка? И вообще как у вас дела идут?
Николай Петрович сел в плетеное кресло напротив Устиньи, и она тут же отметила, что вид у него неважный, хоть он уже слегка загорел. Собственно говоря, перед ней был прежний Николай Петрович Соломин, такой, каким она его оставила два месяца назад. Просто она успела от него отвыкнуть.
— Она… занимается в кинозале. Там рояль. У нас все в порядке. А ты к нам надолго?
— Не бойся — не стесню. Я здесь поблизости устроился. Хотел забрать вас с Машкой на денек-другой к себе — апартаменты у меня роскошные, между прочим. Даже рояль есть. Да и кормят, надеюсь, по более высокому рангу, чем здесь у вас. Съездим в Сухуми, в обезьяний питомник, можно будет и на озеро Рица проскочить. А то вы все тут в четырех стенах сидите. Скучно небось?
— Да нет. — Устинья усиленно соображала, что делать. Вот и настал тот самый час икс, которого она так опасалась — Машка слегка приболела — она машину плохо переносит, особенно этот горный серпантин.
— Что-то не замечал я раньше, чтобы Машку укачивало в машине, — сказал Николай Петрович. — Наоборот, всегда любила, когда я ее в своем автомобиле катал.
— Это возрастное, Петрович. У меня, помню, тоже так было. Ну а потому она не захотела ни на какие экскурсии ездить.
— Но можно вызвать катер. Тут часа два с половиной, не больше. Морем оно даже полезней.
— Какой катер? Видишь, как штормит? Я ее как-то по спокойной погоде повезла на морскую прогулку, так ее просто наизнанку вывернуло.
Устинья сама удивлялась той легкости, с какой ей давалась эта беспардонная ложь Вот только руки дрожат. Она быстро сунула их под стол. Выпить бы сейчас грамм сто чего-нибудь крепкого — водки или коньяка.
— Ну и чудеса тут у вас творятся, — изрек Николай Петрович, окидывая взглядом просторную, уютно обжитую веранду. Его лицо потеплело при виде пуант и брошенного на раскладушку трико.
— Машет ногами? — спросил он, кивая головой в сторону палки.
— Каждое утро. Выросла. Повзрослела. Ты ее, Петрович, не узнаешь. Уезжала ребенком, а приедет, считай, взрослой дивчиной.
— Да будет тебе сочинять. И скоро она придет? Где этот ваш кинозал? Может, мне за ней сходить?
— Не надо, Петрович. Она не любит, когда ее тревожат. Сама вот-вот придет — Устинья почувствовала, как у нее вспотела спина. Она еще так и не придумала, как объяснить Николаю Петровичу присутствие Толи и нужно ли вообще что-то объяснять?..
— Ладно, пусть себе играет, — согласился Николай Петрович. — А ты меня, может, чаем угостишь? Я вижу у вас тут самовар.
— Могу и чем покрепче, если не возражаешь.
Устинья встала и пошла на кухню, где в буфете стояла початая бутылка коньяка — она любила иногда выпить кофе с коньяком — и кагор на случай простуды.
Дверь в Толину комнату была плотно закрыта, и Устинью это слегка удивило Обычно, уходя куда-нибудь, Толя распахивал ее настежь, и Устинья видела аккуратно заправленную кровать, раскрытое окно, в которое заглядывали ветки олеандра. Она прислушалась. За дверью тишина. Ее так и подмывало открыть эту дверь, ибо тишина за ней казалась какой-то неестественной. Но нет, она ни за что этого не сделает — нельзя увидеть то, чего она не должна увидеть.
От коньяка стало немного легче и спокойней. Устинья знала, что Николай Петрович не просто любит, а боготворит Машку. Особенно теперь, когда она одна у него осталась… Ради нее он сделает все, что угодно. И простит ей все, что угодно. Ей-то простит, а…
— Ты знаешь, Петрович, я, наверное, все-таки схожу за Машкой, — сказала Устинья, когда они почти допили бутылку коньяка. — Она так скучала по тебе. Еще успеет наиграться своего Бетховена и Шопена.
Она встала, на ходу соображая — идти в кинозал или в комнату Толи. Не спеша поправила перед зеркалом волосы, сняла с крючка большой черный зонт.
— Я мигом. Скажу, приехал один человек, который ей очень дорог. Не скажу кто, правильно?
— Давай. А я спрячусь где-нибудь и неожиданно выйду. Где тут у вас можно спрятаться?
— Ступай в мою комнату. — Устинья открыла дверь, и в этот момент до нее отчетливо долетел откуда-то из глубины дома Машин смех. У нее похолодело внутри. Но нет, Николай Петрович ничего не слышал — он зашел в комнату Устиньи, вышел на крытый балкончик, сел в шезлонг и закурил.
Устинья метнулась на кухню и тихонько поскреблась в Толину дверь. Выждав несколько секунд, приоткрыла ее ровно на полсантиметра и прошептала, стараясь ничего не увидеть.
— Приехал Машин отец. Он ждет ее в моей комнате на балконе. Я сказала, что Маша занимается музыкой в кинозале. Он не знает, что Толя здесь. Ему лучше про это не знать. Маша, ты должна появиться с улицы. Ты не знаешь, что приехал отец, но догадываешься. Потому что я пришла в кинозал и сказала тебе, что приехал человек, который тебе очень дорог. Будь с ним поласковей, коречка.
Устинья прикрыла дверь, прокралась на цыпочках на веранду, спустилась под зонтом по лестнице и остановилась посреди дорожки, поджидая Машу. Она показалась через три минуты — с нотами под мышкой, в длинном черном плаще. Только шла она не со стороны кинозала, а по тропинке из-за дома (хотя и таким путем можно было пройти в кинозал). Молча подошла к Устинье и уткнулась лицом ей в грудь.
Устинья потрепала ее по плечу и сказала.
— Милая коречка, я понимаю, он не вовремя, но ведь он тебя любит. Помни об этом, ладно?
Маша стала медленно подниматься по ступенькам, тяжело волоча за собой черный хвост плаща. Остановилась на пороге веранды и сказала:
— Ну вот, Устинья, все ты мне наврала — никого здесь нет. А я так спешила… — В голосе Маши было столько боли и разочарования, разумеется, не имеющих никакой связи с только что сказанным ею, что сердце Устиньи дрогнуло и она поспешила на помощь своей коречке, обняла ее за мокрые плечи, поцеловала в горячий лобик, прижала к себе.
— Как нет? Не может быть…
И тут появился Николай Петрович, широко раскрыл руки, приглашая Машу в свои объятия. С секунду они стояли и смотрели друг на друга, потом Маша, сбросив резким движением плащ, кинулась к Николаю Петровичу, обвила его руками за шею и разрыдалась у него на груди.
— Что ты, что ты, хорошая моя, — говорил Николай Петрович, а по его щекам тоже текли слезы. — Ну, ну, будет. Все хорошо, все живы-здоровы, все тебя очень любят.
— Папочка, папочка, люби меня, ладно? — твердила Маша сквозь рыдания. — Мне очень нужно, чтобы ты меня любил. Иначе я… я… умру.