Тайна переписки
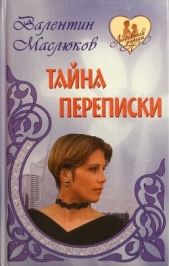
Тайна переписки читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Подумайте, — обронил следователь, со вздохом принимаясь за требующее исключительного терпения дело — ножик не строгал, не резал, а только мусолил дерево.
— Что толку думать? — упрямо возразил Саша. — Чтобы слово в слово повторить, я должен повторить чувство, а чувство ушло. Тогда это была правда, а сейчас… сейчас спектакль. Повторить не могу. И не буду.
— Очевидно, присутствие свидетеля вам мешает.
— Да, мешает.
— Отсюда я должен сделать вывод, что прежде, когда вам ничто не мешало, вы обманывали следствие.
— У каждой минуты есть своя правда.
— Что ж, я запишу эту своеобразную мысль. Не уверен только, что закон правильно ее поймет.
Следователь бросил обгрызенный чуть больше прежнего карандаш и взялся за ручку.
— Но ведь он же не виноват! Он же не виноват ни в чем! — трудным грудным голосом проговорила вдруг Люда. Глаза, наполнившись слезами, блестели.
Следователь пожал плечами.
— Что ему за это будет? — спросила она.
Следователь еще раз пожал плечами и позвал Сашу:
— Распишитесь.
Не читая, Саша расписался и вернулся на место.
— В заключение, если хотите, можете задать друг другу вопросы, — сказал следователь и снова потянулся за карандашом.
— Как? — сказала Люда. — Это все? Все, зачем вызывали?.. Послушайте, — сказала она еще и провела невзначай кончиками пальцев под глазами. — Я кое-что припоминаю… Если, конечно, это имеет значение для следствия.
— Огромное, — невозмутимо отозвался следователь.
— Он сказал… но как я могла поверить? Просто он ошеломил меня… сказал…
— Он сказал: я люблю вас, — раздался негромкий голос Саши.
Люда вздрогнула, но на Сашу не оглянулась.
— Да, он это сказал, — подтвердила она, — и еще… — Люда обращалась только к следователю. — Еще он сказал: я люблю вас и, кажется, не ошибаюсь, что люблю. Он сказал, я знаю вас целую вечность. Я сразу подумала, что это какое-то страшное недоразумение — ведь невозможно! А сердце стиснулось, и я тогда уже догадалась насчет писем… Нет, конечно, не могла догадаться, но как-то сразу в памяти всплыли письма. Я подумала о письмах — с испугом. Не знаю почему, сразу подумала о письмах. Неловко было его слушать, словно он говорил чужое… или, вернее, вытащил что-то тайное, что каждый должен хранить про себя. Что-то такое… мне трудно передать свои чувства — все спуталось. И я… я не могла его остановить. Я стала совсем беспомощная, понимаете? Если бы он час говорил, я бы час стояла перед ним все в том же обалдении. Когда замолчал, я опомнилась и… и ужаснулась тому, что он сказал, и тому, что я слышала, Он говорил, вы стали мне близким человеком, я хочу вам счастья, пусть эту будет Трескин — все равно. Он так говорил, так, что я каждому слову верила, — когда говорил. И испугалась, когда замолк. Потому что тогда уже поняла вдруг, сообразила, что не должна верить. Вот в чем штука! Поняла, что не должна верить! А как же Юра? Как же Юра, думала я. Я должна была оборвать его сразу, на полуслове, но не оборвала, значит, я предала Юру, потому что слушала Сашу — этим одним уже предала. Я тогда еще не знала, что Трескин и Саша — это одно. Мне трудно передать… Наверное, я боялась, что он увлечет меня своим чувством, невозможно было устоять перед этим напором, этим порывом, но я должна была сопротивляться… должна. Страшно мучительно, когда ты должен и не совсем понятно, кому. Жизнь твоя была пуста, долго-долго ничего нет, и вдруг, как обвал, сразу все: и то, и это. Тут голова и покрепче моей пойдет кругом. И еще он сказал: я люблю вас, и в этом мое оправдание. Я тогда не поняла, но слова эти врезались в память, что-то очень сильное за ними стояло. Непонятное, но сильное, вызывающее… И потом, когда я уже все знала, когда это на меня обрушилось — про письма и прочее, когда я уже очень хорошо знала, что не должна любить ни того, ни другого, мне было страшно, что полюблю Сашу — а не должна. Раньше я боялась, что не смогу полюбить… что не смогу полюбить Трескина. Понимаете, раньше я боялась, что не смогу полюбить Трескина. А потом, после этого, стала бояться, что полюблю Сашу. Но ведь так нельзя, я стала сама себе противна, вот, до отвращения… не знаю… Я боялась, что полюблю Сашу… Разве можно так жить: раньше боялась, что не смогу полюбить, а теперь боюсь, что полюблю… Но ведь вы ничего не записали?!
Остановившись, она обнаружила, что Саша и следователь зачарованно замерли в случайных позах и глядят на нее, не отрываясь.
— И все равно не понимаю, — сказала она, — все равно не могу понять, не могу его за эти письма простить. Ни простить не могу, ни понять.
— Помнишь? — тихо проговорил Саша. — У Пушкина: над вымыслом слезами обольюсь.
— Кто вымысел? — тихо спросила Люда.
— Да ведь я и сам не очень-то хорошо понимаю! А уж насчет того, чтобы простить…
Он безнадежно махнул рукой, и Люда, отчаянием этим не слишком тронутая, улыбнулась, хотя и сдержанно. Настолько сдержанно и мимолетно, что даже самый добросовестный следователь едва ли решился бы по здравому размышлению занести эту улыбку в протокол.
— Я вот что подумал, — продолжал Саша, — у меня была девушка… Как сказать… Ну, в общем, это был год, счастливый год, но я тогда не думал… зачем было думать, что между нами происходит, если просто все было, зачем было искать название тому, чем жизнь заполнена?.. И вот, когда это все рухнуло, я с удивлением сообразил, что ни разу не сказал ей, что люблю. Ни разу. И это невозможно было уже поправить.
У Люды стали большие, широко открытые глаза. Всем своим существом Саша ощущал, что сейчас она беззащитна, была она перед ним беззащитна, и всякое грубое, неуклюжее движение его причиняло ей боль.
— Выходит, что тогда в гостинице и вообще… письма… это остатки прежней любви? То, что прежде забыл сказать? А теперь припомнил?
— Да нет же, нет! — с жаром воскликнул Саша. — Пожалуйста, не думай! Я не знаю, поймешь ли ты… О нет, не думай, не хочу сказать, что это так уж трудно понять, наоборот…
Запутался он без надежды отыскать выход.
— Вот что, дети мои, — вмешался следователь, — это надолго. Очень надолго. Разбираться вам и разбираться, боюсь, придется посвятить этому упоительному занятию много-много нескончаемых вечеров, а я человек старый и занятой, так что… — Обернувшись на стук в дверь, он вынужден был прерваться: — Да!
Впрочем, Трескин вошел, не дожидаясь разрешения: стукнул и вошел без особых сомнений, что будет принят.
В полосатом костюме-тройке, при галстуке, выбритый, причесанный и, чудилось даже, напомаженный, Трескин выглядел именинником. Впечатление это подтверждала непринужденно скользнувшая следом в кабинет Аллочка. И если великолепие Трескина носило все ж таки до некоторой степени умозрительный характер — и торжество, и праздник, и все что угодно можно было в случае с Трескиным только предполагать, то Аллочка сверкала уже непосредственно, без всяких предположений и догадок, — она сама была праздник! Она сверкала узорочьем — кольцами, серьгами, она сверкала ногтями, помадой, румянами и счастьем.
Любопытно, что ни Трескин, ни Аллочка не замечали Люды и Саши, словно не видели, не различали их, как приевшуюся обстановку, по которой бездумно, не задерживаясь, скользит взгляд. Да и можно ли было, кстати сказать, кого-то еще заметить, когда они вдвоем, Трескин с Аллочкой, заполонили собой комнату, не оставляя места ни для кого другого.
— Я на минуту! — обратился Трескин к следователю. — Не задержу. Мы с женой, — он оглянулся на Аллочку, которая ответила ему сдержанной улыбкой и слегка кивнула, поощряя продолжать дальше, — мы с женой, — значительно повторил Трескин, — он, впрочем, не улыбался, — улетаем завтра на Канары. Две недели меня теперь не достанешь никаким правосудием. Так что посчитал, так сказать, своим гражданским долгом засвидетельствовать… Заехать, словом, предупредить.
— О, могли бы просто позвонить, — миролюбиво заметил следователь, нисколько как будто бы не удивленный осенившим его скромный кабинет праздником.

























