Жрицы любви. СПИД
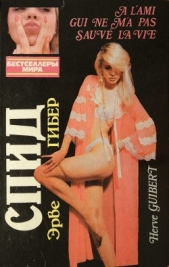
Жрицы любви. СПИД читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
30
Марина уехала в Соединенные Штаты; писем от нее не было, только на страницах газет, печатавших скандальные новости, появлялись нечеткие, размытые фотографии: она разгуливала по Лос-Анджелесу в темных очках, за ручку со своим престарелым красавцем, но я между прочим заметил — держась за ненавистную мне руку, Марина не снимала перчаток, белых батистовых перчаток, — значит, она не изменила нам, Ришару и мне. Я ждал итогов конкурса, куда я шесть месяцев назад послал свой сценарий, еще полагая, что съемки вот-вот начнутся; теперь же, после предательства Марины, лишь победа на конкурсе дала бы мне возможность хоть когда-нибудь снять фильм. Мюзилю была известна вся унизительность моего положения, и он посоветовал мне написать Марине в Беверли-Хилс, полагая, что от обращения к ней меня удерживает гордость. Мюзиль рассказал, возможно слегка приукрашенную им, историю создания так называемой «Прощальной симфонии» Гайдна. Гайдн был композитором при дворе князя-эстета Эстерхази и «Прощальную симфонию» задумал как протест, ибо, исполняя прихоть вельможи, музыкантов не отпускали в город, к семьям, и до самых холодов задерживали в летнем дворце. Симфония начиналась торжественно, одновременно вступал весь оркестр, но вскоре исполнители начинали удаляться один за другим, ведь Гайдн предусмотрел последовательное исключение инструментов, в финале звучало лишь соло, он даже внес в партитуру дыхание музыкантов, задувающих над пюпитрами свечи, скрип натертого паркета в концертном зале у них под ногами. Безусловно, прекрасная ассоциация, созвучная и угасанию Мюзиля, и исчезновению Марины; эту подсказанную Мюзилем историю я изложил в письме к Марине, но ответа так и не получил.
31
Мюзиль упал без чувств у себя на кухне накануне Троицы, Стефан обнаружил его лежащим в луже крови. Не подозревая, что этого Мюзиль как раз хотел избежать — потому и хранил в тайне свою болезнь, — Стефан тут же позвонил его брату, и Мюзиля отвезли в соседнюю больницу «Сен-Мишель». На следующий день я пришел навестить его; в палате, расположенной рядом с кухней, воняло жареной рыбой. Погода стояла отличная, Мюзиль лежал обнаженный по пояс, у него было великолепное, прекрасно тренированное, стройное и могучее загорелое тело, усыпанное веснушками; Мюзиль часто загорал на балконе, и за несколько недель до больницы племянник, помогавший ему оборудовать загородный домик — затея, видимо, с самого начала обреченная на неудачу, — обнаружил в неподъемной дядиной сумке гантели: тот, несмотря на вызванное пневмоцистозом нарушение дыхания, тренировался ежедневно, борясь с пожирающей его легкие дьявольской саркомой. Как только я появился, сестра Мюзиля решила оставить нас одних и вышла из палаты; она принесла ему вкусную еду, пироги с фруктами; я никогда раньше ее не видел — эта женщина с седым пучком на затылке казалась весьма энергичной особой, но тут сами обстоятельства, а может быть, тайна, сообщенная ей другим братом, хирургом, смягчили ее твердый нрав, она плакала. Мюзиль сидел в обтянутом белой кожей кресле-качалке перед залитым солнцем окном, сидел в пропахшей рыбой палате, в тиши опустевшей под Троицын день больницы. Пряча от меня глаза, он сказал: «Люди полагают, будто в такой ситуации можно что-нибудь сказать, а выходит, и сказать-то нечего». Очков он уже не надевал, я впервые увидел не только его молодой, совсем не дряблый торс, но и его лицо без очков, нет, описать не смогу — таким я Мюзиля не запомнил; образ друга я гоню прочь, однако он запечатлелся в моей памяти и в сердце именно в очках, те краткие мгновения, когда он снимал их в моем присутствии, потирая глаза, — не в счет. От удара головой у него на затылке запеклась кровь, я увидел это, когда он, устав сидеть, приподнялся и снова лег в постель. Над его кроватью укрепили ручку — ухватившись за нее, он мог ложиться или вставать, немного облегчая себе мускульное и дыхательное напряжение, раздиравшее ему грудь, сотрясавшее нервными спазмами все тело. Мюзиль задыхался от бесконечных приступов кашля, которые сдерживал лишь затем, чтобы попросить меня выйти. На ночной столик ему поставили плевательницу из темного картона, и докторша, заглядывая к нему, каждый раз говорила: надо сплевывать, сплевывать как можно больше, и сестра, выходя из палаты, тоже указала на плевательницу и повторила, что он должен отхаркивать, сплевывать как можно больше; это раздражало Мюзиля — он знал, из легких ничего уже не отходит. Ему должны были делать пункцию спинного мозга, он боялся.
32
Я навещал Мюзиля в больнице «Сен-Мишель» каждый день; в палате по-прежнему пахло жареной рыбой, яркое солнце так же освещало край квадратного окна; сестра его при моем появлении исчезала; пироги оставались нетронутыми, плевательница — пустой, пункция не удалась, надо было делать ее вторично, снова претерпеть ужаснейшую боль; медсестры говорили — возрастное уплотнение позвонков не позволяет дренажу протиснуться до костного мозга; теперь, когда Мюзиль знал, что это за боль, он боялся ее больше всего на свете, в его глазах горел страх перед страданием, которое не рождается в самом теле, а приходит извне, его вызывают искусственно, путем проникновения в очаг боли якобы для борьбы с нею; было ясно — для Мюзиля эта боль отвратительнее внутреннего, уже привычного страдания. Отрезвленный пока еще никому не ведомым крушением надежд на запуск фильма — об этом все узнают, если только я не получу премию на конкурсе, — я потихоньку вернулся к газетной работе, писал статьи то для одного, то для другого издания. Недавно я брал интервью у коллекционера, собиравшего детские портреты примитивистов; он подарил мне каталог организованной им выставки. Каталог лежал у меня на коленях вместе с газетами, которые я принес для Мюзиля. Я сидел рядом с кроватью. Мюзиль лежал, отказавшись от сверхчеловеческого усилия — попытки сесть в кресло. Я решил показать ему альбом. Мы сразу обратили внимание на портрет под названием «Грустный мальчик», он вполне мог быть написан с юного Мюзиля, хотя я не видел ни одной его детской фотографии, — художник изобразил прилежного задумчивого ребенка, упрямого и растерянного одновременно, замкнутого, но, похоже, любознательного. Мюзиль внезапно спросил меня, как я провожу время. Прежде он был в курсе всех моих дел, знал, чем я занимаюсь практически каждый час, ведь мы ежедневно разговаривали по телефону, а теперь сознание его помутилось — и мой распорядок дня сделался чем-то загадочным, он недоверчиво поглядывал на меня, казалось, он вдруг распознал во мне закоренелого лентяя, человека, до омерзения праздного, или же неожиданно обнаружил, что я трачу свое время и силы на поддержку его врагов, расплодившихся в великом множестве и мечтающих ускорить его конец. «Скажи, на что же уходит все твое время?» — повторял каждый день Мюзиль. Увы, его деятельность сводилась теперь к размеренному движению зрачков вслед за теннисным мячиком — по телевизору передавалась прямая трансляция турнира памяти Ролана Гарроса. Я сказал ему, что опять работаю над книгой о слепых, и в его глазах промелькнула тень ужасного страдания, он сознавал собственное бессилие, невозможность хоть немного поработать над рукописью последнего тома «Истории», оставшегося в набросках. После первого же посещения больницы я стал все записывать в дневник, не упуская ни одной детали, ни жеста, ни слова — пусть разговоры наши, как правило, были редки и ужасно скомканы в силу обстоятельств. Это ежедневное занятие утешало меня и вызывало отвращение, я понимал, Мюзилю было бы очень больно, узнай он, что я, подобно шпиону или врагу, заношу унизительные мелочи в дневник: наверное, записям суждено — и это самое отвратительное — пережить его и стать свидетельством правды, которую он предпочел бы стереть с оправы своей жизни, оставив лишь отшлифованную до блеска грань, она обрамляет сверкающий и непроницаемый черный алмаз, надежно хранящий тайны; дневник, быть может, станет его биографией, хотя уже и сейчас грешит неточностями.

























