В плену страсти
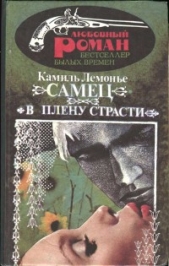
В плену страсти читать книгу онлайн
Романы бельгийского писателя Камиля Лемонье (1844–1913) пользовались громадной популярностью в конце XIX — начале XX вв. Его герои — "сильные личности", целиком поглощенные любовной страстью, поистине сгорающие в ее огне. Они неразрывны с природой, в их жизни царствуют инстинкты, а больше всего на свете они ценят свою свободу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но я не приковывал к себе ничьего внимания. Все женщины, напротив, с поощряющими улыбками обращались на Ромэна. Может быть, потому, что более целомудренные чувствуют влечение к царственным натурам, к насильственным и стремительным характерам. Чудный дар чутья, тайной обаятельной покорности предупреждает их о присутствии завоевателя.
А что было у меня? — Стыдливая краска неповоротливого, пугливого юноши? Мой мягкий женственный темперамент противоречил моим сильным и бурным влечениям. Меня снедала мучительная тоскливая мысль, что хоть я и мужчина, но лишен возможности изведать наслаждения.
Во время отсутствия моего отца я однажды забрался в библиотеку. Доступ к ней мне всегда был закрыт, как будто в своей узкой дальновидности отец мой боялся за влияние некоторых книг на мою легко возбудимую впечатлительность. Он, вероятно, выказал бы не менее предупредительности в отношении лаборатории ядовитых веществ или погреба крепких напитков. И поэтому ключ от библиотеки всегда носил при себе.
В школе я совсем не читал романов. Святые отцы, добросовестные соглядатаи, упражнялись в тщательном надзоре за этой подозрительной литературой.
У отца оказался отдельный том «Любовных приключений кавалера Фобла». Роясь в книгах, я нашел завалившуюся за полку папку с картинами. И ужаснулся прелести греха, который раскрылся пред моими взорами.
Никогда впоследствии я не мог восстановить в своей памяти того жгучего и бурного волнения, которое охватило меня при взгляде на эти отвратительные картины, изображавшие кучи дьявольски сплетенных тел, подобных виноградным лозам.
Я испытывал неистовое величайшие исступление. Ноздри мои напряглись до состояния оргазма. Душа затвердела, как кусок металла под ударами молота. Показалось мне, как будто чьи-то убийственные, нежные руки выворачивали мои внутренности.
Пламенные и пышные, мясистые тела, тяжелые кучи стиснутых грудей сдавливали мне горло от алчных желаний и заглушали крики. Все живое во мне напряглось, как в приступе корчи. Нити нервов моих натянулись, словно канаты на лебедке. Не знаю, как я не умер от невозможности жить после этого. Едкий, вяжущий сок оросил мои губы. Одно мгновенье, и я ощутил, будто навеки застыл в ледяных озерах, будто без конца сгорал на остриях жаровни. И потом — все погрузилось во мрак.
Прошло некоторое время. Я увидел себя распростертым на полу с измятыми картинами в руках. Я все еще не понимаю, какие высшие силы держали меня вне пределов жизни. Я умер на несколько мгновений частью своего существа, и эта смерть без всякого сомнения обнаружилась потерей сознания, в котором растворился приступ моей телесной муки.
И это открытие не явилось для меня обычной пустою забавой. Оно оказалось для меня причиной жестокого и мрачного безумия. Я испытывал бесчувственное состояния, подобное священному ужасу. Я отстранил картины от себя.
Хотел бы лучше никогда их не видеть. Да, я верю, что в этот миг душевной ясности меня посетили святые ангелы сострадания и спасения.
Слезы лились из глаз моих, как будто своими струями хотели смыть недавние пагубные впечатления. Они омыли, хотя на время, мою раненую душу и освежили ее. Я сложил молитвенно руки и попробовал молиться. Хотел произнести слова умилостивления, которые научился лепетать в детстве. Но пятно позора уже лежало на моих устах, как и в сердце. Молитва о божественной помощи замирала по мере того, как высыхала очистительная роса на моих глазах.
Ангелы спасенья опять покинули меня. Мои пальцы — послушные служители низменных внутренних влечений — снова почувствовали возбуждение от прикосновения к картинам. Воспоминание о недавнем, избегнутом, благодаря помощи свыше, испытании не могло победить их преступного тяготения, и глаза мои, словно осужденные, снова упали на убийственное изображение.
Тогда я ощутил во всей своей силе беспощадные опустошения гнилой лихорадки, которая овладела мной и уже лишала меня воли. Мой спинной мозг трещал. Я упивался неслыханным клокотаньем сладострастья, насыщался его разъедающим, дурманным зельем. Самая крепкая серная кислота не сжигала бы моей крови более истребительным огнем.
Эта картина похоти засасывала меня, как топкое болото.
Без сопротивления, с душой подавленной и безучастной, я швырнул моих ненужных ангелов спасения в грязь, где валялась груда мусора.
Не было во мне больше страха погибели. И злая радость уничтожения, дикое, бешеное наслажденье осквернить свою внутреннюю красоту отнимали у меня всякое сопротивление и поддерживали во мне это растлевающее настроение.
Но в то же время во мне возрастала ужасающая правда, охлаждая мое жгучие влеченье. Как?! Мой отец, этот суровый юрист, известный всем за порядочного человека, пичкал себя этими грязными картинами похоти! Свой голод и жажду утолял он этими умопомрачительными яствами, как и я! Все, что вкоренилось в меня и было дорогим и священным, разбилось вдребезги.
Я увидел обманчивые маски, великую порочность общества, которая загрязнила даже самых мудрых. Мне показалось, что такое всеобщее безмолвное соглашение оправдывало меня в моих собственных глазах, но зло от этого не становилось меньшим, и краска стыда за общую жалкую слабость не сходила с моего лица.
Стыд за отцовскую наготу, которую я так подло обнаружил, — никогда уже больше не покинет меня.
Ной снова валялся на пути, опьяненный вином плотских вожделений. Я чувствовал себя наказанным за мою доверчивость и уважение к тому человеку, который должен был своим примером предотвратить меня от низменных влечений.
Комната мне стала невыносимой. Словно осквернитель святых останков, выбежал я из этого места, куда завела меня судьба. Я уносил с собой мерзкую книгу и две картины из самых грязных.
В маленьком помещении, которое отвели мне для занятий, среди запущенных деревьев сада, кидавших зеленые тени в мою обитель, я мог свободно предаваться глазами и умом греху.
Иногда я оставлял город и забирался в деревню. Здесь я мог с меньшей опасностью наслаждаться завидными приключениями моего милого кавалера! О, как я завидовал ему! Плакал от восхищения перед ним, как перед героем. Как возбуждающий напиток, как мед, сдобренный пламенным фосфором, впивал я в себя прелестные проказы — весьма умеренные, впрочем, если их сравнить с той грязью, которая с тех пор наводнила наше общество.
В особенности же картины были для меня источником отравляющих и вечно новых наслаждений. Они вливали в меня яд настоящего полового безумия. С застывшей знойной страстью, с пылким изобретательным воображением, переходя от догадки к догадке, я нагромождал болезненные образы — плоды частых кошмаров так, что получалась целая мозаика непристойных фигур. Она стала для меня живым, реальным и многосложным существом, наподобие гидры.
Картины казались мне такими яркими, что я как будто чувствовал в воздухе одуряющее дыхание и едкие испарения человека-зверя. Да, это был похотливый, вечный зверь, рыскавший по пепелищам Содома и Гоморры. Эти храмы скверны были истреблены серным дождем за то, что предались подобной мерзости плоти. И бесплодная трава произросла из порока оголенной пустыни.
Теперь я согласился бы быть самому осужденным, чтобы разделить и свою долю в этом сверхчеловеческом скотстве. Но я не был уже прежним, трепещущим пред священными запретами, юношей. Завеса разодралась — я познал ужасающую тайну.
В молодом развращенном уме оживают под влиянием этого рвения к злу — муки прежних поколений, измученных жаждой выполнить свое назначенье.
Это рвение погружает его в угрюмую страсть, в мрачное неистовство первобытного человека, вышедшего из состояния девственности и погрязшего в угрюмом фетишизме. Древнее страдание снова вступает в свои права — ибо кто может оспаривать, что в этом не скрывается еще одна из форм Рока, замыкающего человека в круге страданий и толкающего его к освобождению через смерть?
Я праздновал пышный и грустный праздник. Я стал жрецом, который с гневом срывает с себя повязки и повергается ниц к подножию святотатственного алтаря. Я также совлек с себя прежнюю детскую игру. К мерзкой любви простер мои руки — но обнимал один только призрак.


























