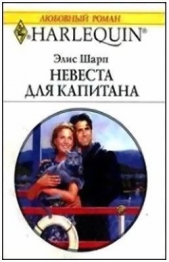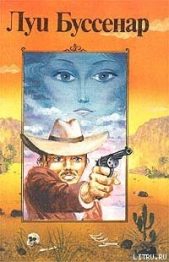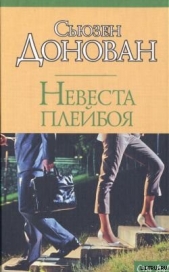Невеста императора

Невеста императора читать книгу онлайн
Блистательное будущее уготовил своей дочери Марии светлейший могущественный князь Меншиков: вот-вот будет сыграна ее свадьба с императором Петром II. Но вмешались давние враги выскочки Алексашки, родовитые Долгоруковы, – и он низвергнут с высот власти в бездны страдания, забвения, а вместе с ним – и вся семья, и дочь. И никому не может прийти в голову, что "невеста императора" может только радоваться столь трагическому повороту своей судьбы, ибо сердце ее отдано Федору Долгорукову, тайною женой которого она стала…
Издание 2000 г. В более ранних изданиях роман выходил под названием "В объятиях призрака", в более поздних – под названием "Государева невеста".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Постой! А девочка-то где?
Сиверга опустила глаза. Маша последила за ее взглядом: от земли и до пояса платье Сиверги – сплошь темное мокрое пятно, в точности повторяющее очертания худенького детского тела. Здесь к ней прижалась девочка… но куда же она делась потом?
«Верно, в тайгу ушла, – подумала Маша. – Куда бы ей еще деваться?»
– Куда-а… в тайгу-у-у… – отозвалось дальнее эхо – мыслям ее отозвалось.
4. Молитва о любви
Не прошли и полусотни шагов, как у Маши кончились все силы. У нее зуб на зуб не попадал, ноги подгибались тащить на себе мокрое, тяжелое, насквозь оледенелое платье, и Сиверга, бормоча что-то под нос, не то утешая, не то бранясь, не то колдуя, уже почти волокла ее, когда наконец меж деревьев открылась малая проталина, залитая жарким солнцем, а на ней – чум из оленьих шкур, наброшенных на шесты. Еще два шеста стояли рядом с чумом. Сиверга торопливо коснулась каждого из них ладонью, а на немой вопрос Маши ответила:
– Видишь, какие высокие? До самого верхнего неба достанут, молитву твою Мир Сусне Хум – за миром смотрящему человеку, всаднику на белом коне, – донесут. Пришпорит он коня, помчится за тем, по кому умирает твое сердце, изловит одну из четырех душ его – сюда приведет.
Маша испуганно заморгала, силясь унять зубовную дрожь – как бы не перебить Сивергу, не рассердить ее! Та ахнула:
– Что ж я? Скорей снимай сырое, а я тебя горячим отваром напою, лихорадку прогоню.
Маша начала неловко, путаясь пальцами, расстегивать да развязывать свое платье, пряча горящие щеки: смущал пристальный взор Сиверги, глядевшей с презрением на ее старания отвернуться, – стыдливость была неведома этой дочери тайги. Наконец ей надоело наблюдать Машины мучения, и Сиверга в два счета содрала с нее все одежки: будто шелуху с луковки облупила.
Маша скорчилась на траве, подняла колени к подбородку, распустила косу – якобы для того, чтобы волосы просохли поскорее, а на самом деле – чтобы хоть как-то укрыться от взгляда Сиверги, которая теперь смотрела на нее с явным неодобрением, поджав губы. Маше почудилась ревнивая зависть в ее глазах, но этого, конечно, быть никак не могло, а потому она отогнала от себя беспокойные мысли и вся отдалась наслаждению греться, греться на солнышке, ощущать, как живой жар расправляет сведенное судорогой тело – до самой малой косточки, жилочки и поджилочки…
Сиверга вошла в чум и вынесла оттуда чашу, в которой дымилось какое-то варево. Маша была слишком измучена, чтобы задаться вопросом: откуда у Сиверги взялось едва ли не кипящее питье, ежели дымок над чумом не вьется? – а просто припала к снадобью. Оно было таким обжигающим, что отшибло всякий вкус, и Маша успела сделать несколько глоточков, прежде чем начала давиться вязкой горечью. С укором глянула на Сивергу, но та кивнула, успокаивая:
– Горько? Это ничего. Очень целебный отвар! Не можешь больше – не пей: значит, твое тело столько требовало, а теперь насытилось.
Маша помахала ладошкой около рта, пытаясь остудить горящую гортань. Чудилось, по жилам разливается жидкий огонь, так согрелась кровь от неведомого снадобья.
– Что это? – еле выговорила Маша, и Сиверга рассеянно бросила:
– Мухомор. Крепкое зелье!
Маша глядела на нее, приоткрыв рот.
Тенью подернулся ясный день. Мухомор? Ведьмино зелье! Да ведь это яд смертельный, ужасный! Машу вновь начала бить дрожь, но она невероятным усилием заставила себя успокоиться: надо думать, не для того Сиверга только что вытягла ее из чарусы, чтобы тут же и уморить ядом.
Да хоть бы и так! Ежели залогом смерти будет встреча, о которой грезит всем существом своим Маша, – что же, она с радостью встретит смерть!
За спиной хрустнула ветка, и Маша испуганно оглянулась, вспомнив, что не одета.
– Пришел кто-то! – испуганно шепнула она.
– Прийти некому, а вот ветром откуда-то понесло, – спокойно отозвалась Сиверга, беря ее за плечи. – Да ничего, это верховик. Ты ложись, чтоб он тебя не коснулся. Лежи… солнце согреет.
И, повинуясь мягкому, но неодолимому пожатию ее рук, Маша легла навзничь, тихонько охнув от щекотки, когда зеленая трава коснулась ее обнаженной спины.
Сиверга с нескрываемым любопытством вновь воззрилась на ее нагое тело. Маша сильно исхудала за последние месяцы и сейчас мучилась, что Сиверга сочтет ее худобу уродливой. Чтобы избавиться от этого неотвязного взгляда, она закинула голову и уставилась в высокое небо.
Ох, каким же было оно высоким и голубым – до звона! И все пронизано солнечными лучами, словно расшито золотыми нитями.
На миг Машей овладела страшная сонливость, веки словно окаменели, но тут же это прошло, и она обрадовалась, что не уснула: было так счастливо глядеть в бесконечную, хрустальную голубизну!
Чем дольше она глядела, тем больше видела, словно глаза постепенно проникались новым, особенным зрением, и вскоре ей открылись дальние грани свода небесного, отшлифованные божественной рукою до такой совершенной степени, что человеку непостижимо увидеть их, когда он удосуживается мимолетно вскинуть к небесам свой затуманенный повседневностью взор. А очи воздетые – прозревают, и прозревала Маша узоры сонных звезд, терпеливо ждущих, когда устанет светить солнце и придет их черед глядеть на землю, расцвечивая своими огнями черный бархат ночи. Рядом со звездами дремала большая белая луна, и все ее тусторонние сновидения клубились внутри прозрачно-туманного, опалового тела.
Маша глядела да глядела бы в вышину, однако ей начал мешать какой-то звук. Чудилось, над ухом кто-то непрестанно, настойчиво звонит в малюсенький звоночек. Маша повернула голову, думая увидеть Сивергу, идущую рядом в своих побрякушках – гэйен, однако у самого лица увидела бледно-синий колокольчик, который раскачивался на своем тонком зеленом стебле и мелодично звенел, звенел… Под кудрявым листом папоротника стоял другой колокольчик, побольше, странного, тускло-белого, тенистого цвета, и гроздь его удлиненных, как бы прохладных цветов исторгала медлительные, протяжные звуки, бывшие словно бы эхом легкого, синего звона.
Маша слушала и смотрела, изумляясь, как высоко выросла трава и как тесно обступили ее цветы – каждый светился, как солнце, и любовался своей красотой. Над миром цветов непрестанно летали другие цветы – то были бабочки. Иногда они припархивали совсем близко и касались обнаженного тела Маши своими бархатистыми крылышками – по телу пробегала дрожь, стон срывался с пересохших губ. Она не то спала, не то бодрствовала, но видела, слышала, ощущала все враз, вблизи и вдали, – и даже перламутровый отлив рыбьей чешуи, устилавшей дно далекой большой реки, видела она. И тоненькая стрекоза, мелко трепеща прозрачными, слюдяными крылышками, с любопытством устремила взор своих изумрудных, невероятных, сетчатых глаз в затуманенные глаза женщины, распростертой на поляне и отданной во власть ненасытному солнцу…
Солнце разогрело ее и разожгло. В глазах мелькали цветные пятна, словно бы спутались день и ночь, и страны света, и времена года. То жарко было, то холодно; светлые, нежные облака стремглав неслись по небу, спасаясь от темных осенних туч, и грозы рокотали в вышине – а может быть, разговоры богов слышала Маша? – на смену грозам приходили снегопады, однако тело ее так раскалилось от солнца, что снежинки тут же таяли, оставляя мучительно-сладостную память о своих прикосновениях.
Витая над временем и пространством, тысячи лет, как мгновение, проживая, Маша при сем знала, что это был все тот же один-единственный день – как бы отраженный в зеркалах мирозданья мерный ход большого времени.
Тяжелая поступь пронзила землю. Олень-рогач гнал прекрасную пятнистую ланку, а она бежала неспешно, делая вид, будто ожидание, гонка – самое лучшее, что ждет их двоих, а вовсе не томительная страсть, которая владела одинокой женщиной, беспомощно простирающей руки к миру.
Она не замечала, что плачет, что слезы бегут по вискам и увлажняют землю вокруг, – к изумлению цветов, еще не знавших соленого дождя.