Сапфо, или Песни Розового берега
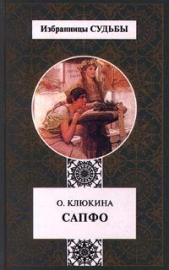
Сапфо, или Песни Розового берега читать книгу онлайн
И достоверные сведения, и сохранившиеся стихотворные строки, и легенды, и мифы — все использует автор для создания яркого образа своей героини. Перед нами раскрываются душевные переживания великой поэтессы, бытовые подробности ее жизни, наставничество и творчество, а также необычный женский мир, созданный Сапфо на острове Лесбос.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Филистине все время казалось, что щеки Сапфо то и дело то вспыхивали, как только в очаге чуть сильнее разгорался огонь, то снова становились серыми в причудливых узорах теней, которые делали лицо подруги неузнаваемым, а порой — и вовсе чужим, и даже немного страшным.
— …Знаешь, Филистина, я вот что вдруг вспомнила — один опытный врач совсем недавно показывал мне свои хирургические инструменты, — вдруг, очнувшись, сказала Сапфо, как будто бы она вовсе и не услышала того, о чем ей говорила подруга. — Ты никогда их, случаем, не держала в руках, или хотя бы не видела вблизи?
— Нет, — с досадой качнула головой Филистина. — Но я сейчас говорю с тобой совсем, совсем о другом…
— …А я видела, — продолжала Сапфо. — И даже держала в руках страшные щипцы, пилы для костей, крючья и иглы, которые врачам приходится вонзать в тела больных людей, для того чтобы в итоге, после страшных мук, принести им благо и исцеление. И еще я своими глазами видела ужасное приспособление, которым пользуются, чтобы раздробить плод в материнской утробе, когда понимают, что только этим можно спасти бедную роженицу…
— Что ты хочешь этим сказать? — ужаснулась Филистина. — Что тогда, когда наша маленькая Тимада… было бы лучше…
— Нет, ты меня не поняла, — нахмурилась Сапфо, и при неровном отсвете от очага у нее на лбу обозначилась упрямая складка, какой не бывает и не может быть у юных, беззаботных девушек. — Я хочу сказать лишь то, что порой надо уметь думать не только о себе — и это самое трудное. А в твоей речи, Филистина, чаще всего звучало почему-то слово «меня». Ты хочешь, чтобы Фаон навсегда остался с тобой, с нами, в кругу женщин, которые несомненно окружат его своей любовью?..
— Да, Сапфо, очень хочу. У меня… у меня это теперь не выходит из головы.
— Но лучше ли это будет для него самого? Вот вопрос, который я тоже себе постоянно задаю, но не могу найти ответа, — медленно, задумчиво продолжала Сапфо, не отрываясь глядя в огонь. — Ты уверена, что своей опекой мы Фаона спасем, а не погубим, наоборот, как мужчину? Ты же не хочешь, чтобы он сделался юношей с душой евнуха, которому бывает хорошо только в гареме, среди женщин, считающих его своей подружкой?
— Но что ты такое говоришь, Сапфо! — возмутилась Филистина. — Я тебя просто не узнаю…
— Я тоже себя не узнаю, — сказала Сапфо разглядывая конец прута, которым она двигала угли — от жара он сделался красным, раскаленным и особенно опасным, действительно напоминая какой-то хирургический инструмент. — А себя ты узнаешь, Филистина? Ты можешь сказать точно: о ком — о себе или о Фаоне — ты сейчас думаешь больше, когда просишь меня отменить решение? Попробуй ответить на этот вопрос совершенно честно…
Но, увы, ни тогда, ни теперь ответить на вопрос Сапфо Филистина не могла, и это продолжало ее сильно мучить.
Поэтому Филистина после обеда устроилась в уголке, откуда ей удобнее всего было наблюдать за игрой Фаона, в надежде, что сможет получше разобраться в своих противоречивых чувствах — продолжение важного разговора Сапфо отложила на вечер, а сама отправилась гулять, несмотря на ветер и дождь.
Петь Филистине совершенно не хотелось, но ей нравилось держать кифару на руках и нянчить инструмент, как дитя, о чем-то словно еле слышно с ним переговариваясь.
И при этом Филистина продолжала отыскивать в уме новые и еще более весомые слова, которые она собиралась высказать Сапфо, когда подруга вернется с прогулки.
Дидамия, как всегда, находилась вблизи Эпифокла, но сегодня ничего не записывала. Признаться, она заметила, что ученый муж давно уже начал повторять многие свои мысли и изречения, и потому ее первоначальное любопытство немного приутихло.
Но зато Дидамия следила, чтобы слова Эпифокла подробно записывали на восковых табличках ее ученицы — три совсем молоденьких девушки сидели вокруг Эпифокла, образовав на редкость красивый кружок, словно три грации, и старик буквально сиял удовольствием от их близкого соседства.
Юная Глотис тоже сидела, держа на коленях табличку, но она на ней не писала, а пыталась поймать очертания профиля Эпифокла — делала зарисовку, а потом недовольно стирала и начинала новую попытку.
Сам Эпифокл, ощущая себя кем-то вроде важного шмеля на цветочной клумбе, продолжал «жужжать», развивая свою любимую идею о всеобщей связанности мира, но теперь применяя в качестве связующего звена еще и категорию красоты, чему очень даже способствовали окружающие его со всех сторон лица.
К тому же старик до сих пор еще находился под сильным впечатлением от первых «фаоний» и теперь с нетерпением ждал продолжения праздника — тем более что о вторых «фаониях» Алкей говорил загадками, подолгу о чем-то совещался с Фаоном и всех сильно интриговал.
— Хайре! Радуйся! — громко сказал незнакомец, заходя в дом, но при этом так свирепо сверкнул глазами, словно пожелал всем присутствующим не радости, а скорее всего, чтобы они все тут же разом провалились на месте.
Эпифокл, увидев вошедшего, мгновенно прервал свою заумную мысль и словно сразу же несколько уменьшился в размерах.
— Хайре! — ответил за остальных Алкей, без особого удовольствия оглядывая незнакомца, одежда и обувь которого были пренеприятно перепачканы грязью.
А потом, ухмыляясь, добавил:
— Рад тебе, чужеземец, если ты только не собираешься нас съесть! Но скажи нам хотя бы свое имя, раз вошел.
Незнакомец, вторгшийся в мирное течение симпосия. имел весьма примечательную наружность: у него были огненно-рыжие, с проседью волосы и такая же пышная, рыжая борода, из-за которой лица человека не было как следует видно.
Голову незнакомца прикрывала широкополая шляпа — петас, с которой грязными струйками на пол стекала вода.
Своей гривой, крупным телосложением, мягкой, пружинистой походкой он был чем-то неуловимо похож на льва, забредшего в здешние края из какой-то далекой, опасной пустыни и сейчас собирающегося растерзать жертву, выбрав для закуски почему-то старого и самого неаппетитного Эпифокла.
И все же Алкей был несколько удивлен, когда выяснилось, что его первое впечатление о пришельце оказалось на редкость точным.
Во-первых, незнакомец носил имя «Леонид», что дословно означает «львенок» — и из этого можно было заключить, что он и родился таким рыжим, с львиной расцветкой, раз мать на десятый день после рождения решила назвать его именно таким именем.
Во-вторых, как выяснилось, Леонид действительно прибыл сюда из дальних стран, так как был владельцем большого парусного судна — триеры.
На таком судне, достаточно дорогостоящем и редком, гребцы располагались на трех палубах, а в ветреную погоду корабль мог свободно идти под парусом.
Ну, а разъяренный вид пришельца, сверкание его небольших, близко посаженных серых глаз можно было объяснить тем, что Леонид являлся владельцем и одновременно капитаном той самой триеры, на которой Эпифокл должен был отплыть на остров Фасос, и терпение морехода к этому моменту иссякло.
Нет, Эпифокл не врал — у него с Леонидом действительно имелась устная договоренность, подкрепленная клятвами быстроногому Гермесу о том, что судно не отплывет без философа на Фасос, и капитан, будучи человеком слова, не мог ее нарушить.
Но ведь капитан вовсе не предполагал, что Эпифокл, прибыв на Лесбос, тут же бесследно растворится в красотах острова, как жемчужина, опущенная в уксус.
Прождав философа неделю, а потом еще два дня, Леонид не выдержал и отправился самолично отыскивать Эпифокла, где бы тот ни находился.
И вовсе не для того, чтобы упрашивать Эпифокла поскорее возвратиться на корабль, а просто объявить, что лично он, Леонид, больше не намерен напрасно терять времени, а тотчас отменяет клятву, поднимает паруса и без промедления отправляется в путь, считая договор полностью расторгнутым.
Время, которое капитану приходилось проводить на суше, он считал порой хоть и необходимым, к примеру, для пополнения запасов, для залечивания серьезных ран или для смены гребцов, но по большому счету — потраченным совершенно напрасно.
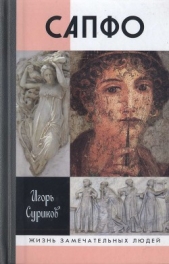
![Мелика [Вокальная лирика]](/uploads/posts/books/119726/119726.jpg)
























