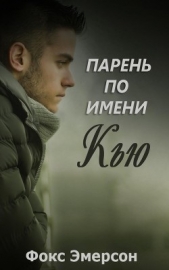Случай Портного

Случай Портного читать книгу онлайн
Блестящий новый перевод эротического романа всемирно известного американского писателя Филипа Рота, увлекательно и остроумно повествующего о сексуальных приключениях молодого человека — от маминой спальни до кушетки психоаналитика.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это кто у нас такой маленький? Это кто у нас такой сладенький? Кого мамочка — ам?!
Я чуть не захожусь от умиления, а может, от чего-то другого, например, оттого, как меняют чулки мамины ляжки, поднимаясь все выше? Я придвигаюсь вплотную, я делаю вид, что разглядываю застежки на поясе, к которым пристегиваются чулки, я слышу запах душистого талька и мыла. И еще запах какой-то заразы, полироля, от спинки кровати — мама спит на ней по ночам с мужчиной, про него говорят, что он мой папа. Зачем? Как много разных запахов в маминой спальне, откуда-то запах рыбного салата, хотя мама тщательно вымыла мне пальчики после завтрака. А, так пахнет у нее между ног! Оттуда! Ух, я просто рычу — представляете, в четыре года! — я чувствую кровью какую-то неизъяснимую сладость. Мы одни. Толстое длинноволосое существо, которое называют моей сестрой, отправилось в школу, тот, который папа, тоже куда-то ушел зарабатывать деньги. Я бы хотел, чтоб они никогда не вернулись. Пусть только мне эта женщина показывает, как она надевает чулки, пусть только для меня поет свои птичьи песенки и лопочет:
— С кем мамочка пойдет в магазинчик? Кто везде ходит с мамочкой?
Кто-кто? Я, конечно! Но я понимаю, что это такая игра, и не имею ничего против, я млею, когда она говорит:
— Кто у нас покушал вкусненько? Кто поедет с мамочкой в город на автобусике? — и тому подобное.
Вот что она делала со мной. И вы знаете, что она отколола на прошлой неделе? Я вернулся из Европы, приехал к ним, а она после «здрас-сте» вдруг сказала:
— Ну-ка, пощупай, — и взяла меня за руку.
— Что пощупай? — только и успел вымолвить я, а она уже прижала мою мгновенно похолодевшую ладонь к своей ляжке!
— Видишь, — с гордостью рассмеялась она, — я не прибавила и пяти фунтов с того дня, как ты родился.
И все те же чулки! Как и раньше, она это делает у меня на глазах — вот уже двадцать пять лет одно и то же! Только теперь я стараюсь в последний момент, когда флаг достигает вершины флагштока, отвести взгляд. Нет, не потому, что мне неприятно туда смотреть, а из-за папаши. Только из-за этого недотепы, хотя какие у него на нее особые права? Что он будет делать, если его сыночек разложит мамочку прямо на ковре? Схватится за ножик, что ли? Может, кипяточком ошпарит инцестуозную парочку? Заорет или плюнет и будет смотреть телевизор, пока мы с мамочкой оба не кончим?
— Не бойся, мне уже не двадцать лет, — улыбается моя мамочка, пристегивая резиночку. — Что ты отворачиваешься? Разве не я шлепала твою попку и целовала маленькую пипку? Ты видел? — говорит она отцу, чтобы он не проворонил самый пикантный момент представления. — Он боится меня сконфузить — можно подумать, что я — Мисс-Какая-нибудь!
Раз в месяц мой папаша, в надежде размягчить заскорузлость и ороговение от непосильного труда, ходил в баню. Он, конечно, брал меня с собой. Наверху, в раздевалке, где кроме шкафчиков белели на койках под простынями тела тех, кто уже прошел все круги ада, мы оставляли свою одежду. Эти несчастные сильно смахивали на жертв катастрофы; если бы они не пофунивали и не похрапывали, можно было вообразить, что мы в покойницкой и почему-то вынуждены раздеваться. Стараясь не смотреть на «усопших», я лихорадочно стаскивал и комкал трусы. Опыт мне подсказывал, что там, внутри, и на этот раз обязательно будут желтые следы кала. Вы знаете, доктор, я всегда так тщательно подтирался, у меня ни на что не уходило столько времени, как на подтирку. «Бумага не растет в огороде», — говорил мой папаша, а я изводил ее рулонами, я натирал себе анус до красноты и все без толку — перед сном я закапывал в бельевую корзинку абсолютно загаженные трусы. Ох, как я мечтал о чистых трусах, о том, как мама пойдет стирать и порадуется их нетронутой белизне, будто сошедшей с задницы ангела, а не какого-нибудь засранца. Ох, как я презирал себя! Ну а здесь-то кого стесняться? В нашей турецкой бане нет ни женщин, ни гоев, одни евреи. Абсурд какой-то!
Итак, стараясь никуда не глядеть, кроме белой папашиной задницы, следуя за ним, как привязанный, спускаюсь по железным ступеням, в преисподнюю, в чистилище, где очищают паром, водой и массажем, где мой папа на какое-то время перестанет ощущать себя евреем, занюханным клерком, главою семейства и прочее. Обойдя штабеля белоснежных простыней и мохнатых полотенец, мы заходим в полумрак, пахнущий гаультерией. Нас приветствуют жиденькими аплодисментами, как героев неубедительной трагедии — это в глубине, на мраморных лежаках массажисты шлепают спины, месят бедра, разминают икры и выкручивают суставы таких же бедолаг, как мой папа. Я завороженно гляжу на эту картину, пока мы проплываем мимо, дальше кубический бассейн, наполненный зеленой ледяной водой, на которую страшно даже смотреть, и мы подходим к двери в парную.
Когда она открывается, воображение переносит меня в доисторические времена, когда еще не было даже пещерных людей, про каких нам рассказывали в школе. Тогда земля представляла собой раскаленную массу и солнце закрывали клубящиеся испарения. И я испаряюсь, я уже не мальчик-паинька, спешащий порадовать мамочку школьными оценками, не наивный соглядятай маминых тайн, я там, где нет еще ни ванн, ни туалетов, ни домов, ни семейных трагедий, а только одни примитивные толстомясые бокастые земноводные. Они все не евреи, а стадо каких-то еврейских животных, переползающих из жаркого пекла под душ и обратно — счастливых своим естественным состоянием и миром, в котором ни жен их, ни гоев, — и при этом хрюкающих от удовольствия: ой, ой!
Потом я стою пред ним, а он намыливает меня сидя на лавке, и я с восхищением разглядываю его добро. Мошонка его похожа на сморщенную рожу старика с надутыми щеками. Аналогичная часть моего тела выглядит как розовый кукольный кошелек; а его шланг!… у меня-то тоже есть, но он, как пальчик, который маменька любовно именует «маленькой пипкой», и ладно бы, когда мы одни, а то и при посторонних, и по сей день!
Мы как-то зашли в магазин дяди Ната на Спрингфид-авеню в Ньюарке. Я, конечно, мечтал о настоящих плавках со шнурком, который завязывается спереди. Мне уже одиннадцать лет, и я знаю, что лучше до поры помалкивать, а то ничего не получишь, или они всучат тебе что-нибудь совсем другое. Сам дядюшка тут же выкладывает перед нами обыкновенные трикотажные мальчишеские трусы, которые я ношу с младенчества: вот лучший вариант — быстро сохнут, ничего не натирают.
— Какой цвет прикажете? — спрашивает он. — Может быть, ты хочешь цвета твоей школы?
Я уже заранее краснею, но отрицательно мотаю головой:
— Никакой… Я не хочу эти трусы.
— Как не хочешь? — удивляется папаша. — Это самые лучшие. Ты слушай, что тебе говорят.
— Ну и что? — говорю я. — А из эластика лучше. Я хочу обтягивающие с завязкой.
И тут моя мамочка расплывается в сладкой улыбке:
— Обтягивающие твою маленькую пипку? — с восторгом спрашивает она.
Да, мама, пипку! Вот, эту самую, вот!
Итак, я стою и смотрю на его шланг. Это мне напоминает пожарный брандспойт в конце коридора. Слово-то какое! Как оно замечательно подчеркивает плотскую грубость этого обрубка, безмозглость и одушевленность. Особенно, когда он извергает струю, толщиной и прочностью не уступающими канату. Сам-то я могу выдавить только тоненькую струйку, то, что мама называет «пописать». Это Ханна писает, думал я, у нее вообще не поймешь, откуда течет. «Хочешь пописать?» — обычно говорит мама. Как бы не так, не «пописать», а буравить унитаз, чтоб звенел, водопада хочу, фонтана, потопа, чтоб как у отца, когда мать ему кричит:
— Ты будешь когда-нибудь дверь закрывать? Ну чему от тебя научится сам-знаешь-кто!
Ох, мамочка! Этот сам-знаешь-кто не сумел перенять сама-знаешь-у-кого ни очаровательной пошлости, ни восхитительной грубости, потому что считал это признаками неотесанности! Да, мамочка, я стыдился своего папочки! Всегда, везде, во всем! Меня это унижало!
К дяде Хаиму в нашем доме относились с особым почтением. Он был старше отца, старше всех остальных теток и дядек, единственным, кто родился еще «на той стороне», и говорил с кошмарным акцентом. Дядя Хаим занимался производством, розливом и распространением напитка «Сквиз» — сладенькой газировки, которая подавалась у нас к обеду вместо столового вина. Он был удачливым коммерсантом и грозным отцом семейства. Со своей психопаткой Кларой, сыном Гарольдом и дочерью Марсией он жил в еврейском квартале Ньюарка в собственном доме на втором этаже. Мы к ним потом переехали, на первый этаж, когда папашу перевели в Эссекское отделение «Бостон энд Нордистерн».