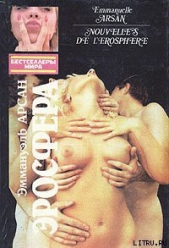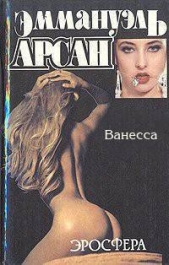Нея

Нея читать книгу онлайн
Эммануэль Арсан (род. в 1938 г.) — псевдоним очаровательной евразийки Мэриэт Ролле-Эндриан, супруги члена французского представительства при ЮНЕСКО, который до этого занимал дипломатический пост в столице Таиланда — Бангкоке. Впоследствии он был отлучен от дипломатии, так как французские власти посчитали несовместимыми статус дипломата и мужа секс-революционерки, автора скандально знаменитого романа «Эммануэль».
Откровенный свободный взгляд на сексуальные отношения сделал Э. Арсан известной во всем мире и превратил ее в культовую фигуру по обе стороны Атлантики.
В настоящее издание вошли романы Э. Арсан «Ванесса» и «Нея».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ты знаешь, что похож на меня, отец?
— В такой же степени, как хамелеон. Будучи принятым за тебя, я могу защитить себя от нападения извне, — говорит он с новой иронией, которая мне нравится.
— Действительно похож. Я пристально изучала тебя, у тебя такие же жесты и вкусы. Взгляни на эти детективные романы, которые я положила вон там для тебя, и скажи прямо сейчас, какой из них тебе хотелось бы почитать сегодня вечером. Ну же, скажи мне сейчас, пожалуйста.
Он выбирает один.
— Давай посмотрим… Да, тот самый, который мне бы хотелось взять самой и почитать сегодня вечером… Ты видишь, мы похожи.
— Это естественно, — говорит он, в его глазах мелькает вновь обретенный юмор, — ты настоящая мать для меня, а?
— Если я твоя мать, тогда для тебя наступило время принять ванну.
Беру его за руку и тяну.
— Пожалуйста, раздевайся.
Наклоняюсь над ванной и открываю краны. Добавляю масло для ванны: я не забыла его вкус, «Verbena Floris». Сколько раз я слышала, как он рассказывал о поездках в Лондон, из которых, конечно же, забывал захватить «Verbena»… Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть, начал ли он раздеваться. Да, он снял свой темно-красный пуловер и развязал галстук…
Я выхожу. Боже мой, забыла… Поднимаюсь на второй этаж, в старую ванную комнату, которую приготовила для себя, чтобы найти бритвенный прибор, эти знаменитые лезвия в золотом обрамлении, которыми я так восхищалась, будучи маленькой.
Я сбегаю вниз, открываю дверь в ванную и бросаю прибор ему в лицо. Он лежит в воде, которую масло для ванны слегка окрасило в янтарный цвет, в этом запахе вербены, всегда ассоциирующимся у меня с ним.
— Так чудесно, — не могу я удержаться от комментария.
— Ты всегда поступала как вербена, ты маленькая плутовка, — смеется он.
Это замечательный смех, более удивительный, чем запах вербены, он так напоминает смех моего детства.
И вдруг, наверное, потому что я услышала его такой знакомый по тем дням смех, звучащий в моих ушах как бесшабашный смех молодого мужчины, я вижу его. То есть вижу его тело — более молодое, чем лицо. Чудовище — он не бреется, чтобы заставить себя выглядеть старше, чувствовать больше отвращения к самому себе — но все-таки его тело выглядит так чудесно! Оно создает впечатление слабости, которое я связываю со старением, но по-прежнему все такое же мускулистое. Гладкий живот — ни единой складки; несколько морщинок на шее, и кожа, прозрачная по причине возраста, имеет структуру морских цветов. Все оставляет свой отпечаток на этой слишком тонкой коже. Этот красивый мужчина — мой отец. А он говорит, что я его мать. Да, это правда, я только что родила его.
— Знаешь, папа, ты красивый.
— Отвратительный, да, я даже не побрился.
— Ты делаешь это нарочно. Ты не брился, поэтому выглядишь отталкивающим, признайся в этом…
— Нечего признаваться… Я должен побриться, уходи.
Я как можно быстрее иду в свою комнату. Тремя движениями резко сбрасываю с себя одежду и надеваю длинное платье с короткими рукавами, предназначенное для приема гостей, из шерсти и ламе [12], которое делает мою фигуру потрясающей.
Директриса выбрала его для меня.
Я снова тороплюсь на кухню. Пахнет восхитительно, форель по-ирландски отменна, и повар открывает дверцу печи, чтобы показать мне жаркое из баранины.
— Зажарено как раз в меру, мадемуазель. Такие нежные кусочки мяса на косточке.
Стучусь в комнату отца, и он открывает дверь.
— Телепатия, — говорит он, указывая на мое закрытое платье и свой светло-голубой свитер с короткими рукавами. — Идем.
Он одергивает свою домашнюю куртку, которую я повесила в платяной шкаф вместе с костюмами. Она сидит на нем так же хорошо, как и раньше. У него по-прежнему хорошая фигура, и теперь, когда он выбрит, я замечаю, что волосы куда более белые, чем я думала. Из-за этой грязноватой серости на щеках и подбородке его волосы, как мне казалось, только обрели тусклый бесцветный оттенок.
Хотя он, разумеется, и не был у парикмахера месяца три или больше, его вьющиеся волосы имеют здоровый пышный вид, и от этого лицо выглядит неправдоподобно молодым.
— Ты не просто красивый, папа, ты потрясающий, — говорю я и беру его под руку. — Я покажу тебе меню, и ты сможешь отгадать, какие вина я поставила на стол.
Это тоже игра, одна из тех, которые он называет образовательными.
— Давай посмотрим… Шампань Поль Роже 1967 года, Кло Вужо 1929-го — я не могу ставить это себе в заслугу, я знаю, что кое-что осталось в подвале, — и Шато-Икем, 1921-й…
— Нет, ты ошибаешься. Это действительно Шато-Икем, но 1912-й. Ты оставил одну-единственную бутылку, и мне думается, это самая ценная в твоем подвале. Но, я считаю, сегодня или никогда…
Он ест и пьет, а я наблюдаю за ним. Я не голодна. Я съедаю всего несколько кусочков. Хорошо, что он здесь, так чудесно, что он красивый, так чудесно, что он любит меня… Он любит меня?
— Папа?
— Да, Нея… конечно, я люблю тебя.
Несмотря на удивительные вещицы, украшающие гостиную, я не хочу оставаться здесь. Я хочу вернуться обратно в комнату отца вместе с ним.
— Располагайся поудобнее. Пойду переоденусь и вернусь.
Я надеваю ночную рубашку, халат, тапочки и возвращаюсь.
Он тоже в халате, лежит на своей кровати, утопая в подушках, с сигаретой во рту. Он не выкурил ни одной после моего возвращения, и я едва ли это заметила. Однако, не подумав над этим, уже заканчивая работу по приведению в порядок его комнаты, я сунула нераспечатанную пачку «Кэмела» в ящик его стола.
Мы разговариваем. Обо всем. О маме. Обо мне. Беседуем обо мне, не делая этого — то есть не упоминая конкретно Мориса или изнасилование. Мы в основном говорим обо мне, а позже о моем отношении к отцу и о том, как он увидел меня. Странная сцена.
Он казнит себя, что не показывал своей любви ко мне. Тут он не прав, я очень хорошо знала, что он меня любил. Я знала все слишком хорошо, потому это никогда не интересовало меня. Мне были нужны мужчины, а я не смотрела на него как на мужчину.
Все-таки, мне думается, я не интересовалась этим, так как не могла принять его отношения к матери. Я не могла смириться с тем, что он всегда ей покорялся.
— Твоя мама была хорошей женщиной. Я любил ее, конечно, однако у нас было немного общего, скорее, очень мало. Мне нравилась ее хозяйственная расторопность, ее склонность к порядку, ее проворство, аккуратность и ее преданность тоже. Я любил ее очень сильно, но мы даже не разделяли нашей привязанности к тебе или Сюзанне, поскольку не видели вас в одном и том же свете. Например, я знаю, ты была сильной и смелой и ждала от нас всего, всех ответов. Я знаю, твои требования были безграничны. Твоя мама могла видеть только то, что не выходило за рамки твоих успехов в школе. Она была довольна, она считала, что у тебя все прекрасно. Вот почему она была куда больше разочарована в тебе, чем я… Я имею в виду до твоей отправки в Лаклэрьер.
Это меня совсем не удивляет…
Теперь мой черед говорить, рассказать ему, как я обычно думала о нем, насколько крепко любила и прежде всего объяснить ему, что я за человек.
— Ты видишь, я снова твоя дочь, — говорю я ему. — И была ею со времени этого обеда, с сегодняшнего вечера… Потому что, начиная с настоящего момента, я никогда больше не скрою ничего от тебя. Нельзя оставаться раздвоенным, отдавая только половину себя другим. Вероятно, мы всегда носим маски, надетые на различные лица разных людей… Выходит, не так, как в действительности. Люди или разрезают себя на маленькие кусочки и подкармливают вас «вкусненьким», или отрезают себе головы, или вспарывают себя… Ты понимаешь, папа, я могу любить тебя только целиком, всей собой… Или тогда я должна отделить себя полностью от всех, как это сделал ты. Но почему ты ударился в самоанализ?
— Потому что у меня ничего не оставалось, Нея. Твоя сестра уехала. Я знаю, она не хочет иметь ничего ни с тобой, ни со мной, ни с семьей. Что касается тебя, ты уехала в эту психушку. У меня было такое чувство, что мы избавлялись от тебя, как если бы закрывали что-то, чего надо было стыдиться: это было нечто вроде ампутации, и ты тоже отказалась от нас, как и твоя сестра. По крайней мере, я был абсолютно счастлив, живя как хобо [13]. У меня оставалось кое-что, чем можно было занять себя. Это моя берлога и викторины удерживали меня. Я отрезал себя от всех других возможностей и вариантов…